— Я говорю о чем-то более серьезном. Героин? — сказал Карелла и сделал паузу. — Кокаин? — добавил он, внимательно следя за ее лицом.
— Салли курила иногда марихуану. Кто не курил? Но что касается остального — вряд ли.
— Уверены?
— В суде бы клясться не стала. Но обычно, когда работаешь вместе с кем-то в шоу, можно довольно хорошо понять, кто что делает, и я не думаю, что Салли принимала какие-либо серьезные наркотики.
— Вы предполагаете, что кто-то из труппы?..
— Безусловно.
— Угу, — буркнул Карелла.
— Не героин, — сказала Тина, — таких дураков теперь нет. Но кокс иногда — конечно.
— Только не Салли.
— Насколько я знаю, нет. — Тина помолчала. — И не я, если это ваш следующий вопрос.
— Нет, — улыбнулся Карелла, — у меня другой вопрос. Салли никогда не упоминала об угрозах по почте или телефону?
— Нет, никогда.
— Она должна была кому-нибудь денег? Насколько вам известно.
— Нет, о таком я не слышала.
— Что-нибудь ее тревожило?
— Нет. Ну… да.
— Что?
— Ничего серьезного.
— Что именно?
— Она хотела снова брать уроки пения, но не могла найти время. Ей приходилось танцевать каждый день, и трижды в неделю она посещала психоаналитика.
— И все? Ее только это тревожило?
— Это все, о чем я от нее слышала.
— Не знаете имя психоаналитика?
— Простите, нет.
— Как она ладила с другими актерами?
— Отлично.
— А с руководством?
— Кого вы имеете в виду? Алана?
— Кто такой Алан?
— Наш продюсер, Алан Картер. Я имею в виду, о каком руководстве вы спрашиваете? Спектакля? Компании?
— Обо всех. Как она ладила с людьми, которые занимаются спектаклем?
— По-моему, отлично, — сказала Тина и пожала плечами. — Когда спектакль отработан, они приходят реже. Ну, в нашем случае, поскольку мы так популярны, Фредди приходит раз или два в неделю — убедиться, что мы не начали халтурить. Однако по большей части…
— Фредди?
— Наш режиссер. Фредди Карлайл.
— Как правильно пишется? — спросил Мейер, снова беря записную книжку.
Тина продиктовала по буквам.
— А имя продюсера, вы говорили…
— Алан Картер.
— Кто директор компании?
— Дэнни Эпштейн.
— Генеральный?
— Лью Эберхарт.
— Еще кто-то еще, о ком мы должны знать? — спросил Карелла.
Тина пожала плечами.
— Помощники режиссера? У нас их три. — Она снова пожала плечами. — То есть вообще у нас тридцать восемь человек только актеров, и еще бог знает сколько музыкантов, электриков, плотников…
— Среди них есть испаноговорящие?
— Среди рабочих? Наверное. Я не особенно с ними знакома. Разве что иногда пробегаю мимо них в нижнем белье.
Она вдруг светло улыбнулась, но затем, вероятно, вспомнила, о чем они говорят, и улыбка исчезла так же быстро, как и появилась.
— А что насчет труппы? Есть среди них испаноговорящие? — спросил Карелла.
— Двое из цыган.
— Назовите, пожалуйста, их имена, — сказал Мейер.
— Тони Асенсио и Майк Ролдан. Фамилия «Ролдан» на самом деле испанская, хоть и не похожа. Вообще-то он Мигель Ролдан.
— Была ли Салли дружна с кем-то из них?
— Цыгане в шоу не особенно хорошо знают друг друга, — сказала Тина.
— Как хорошо она знала этих двоих? — спросил Карелла.
— Так же, как и остальных.
— Она встречалась с кем-то из них?
— Они оба голубые, — усмехнулась Тина. — Даже вместе живут.
Разговор о спектакле, видимо, напомнил ей о дневном представлении. Девушка быстро взглянула на часы.
— О господи! Мне надо бежать, а то опоздаю! — Внезапно Тина смутилась, и детективы подумали, что сейчас она снова заплачет. — Шоу ведь должно продолжаться, верно? — с горечью произнесла она, качая головой. — Салли умерла, а я беспокоюсь из-за какого-то шоу.
Глава 4
Из патрульной машины, стоящей у тротуара, двое полицейских следили за дракой, в которой священник, похоже, одерживал верх. Вылезать из машины и вмешиваться копам не хотелось — там холодно, да и священник вроде прекрасно справляется сам. Кроме того, наблюдать, как святой отец макает в снег своего щуплого противника, было весьма увлекательно.
Здесь, на территории восемьдесят седьмого участка, порой трудно отличить латиноса (в отчете следует писать «испаноговорящего») от белого, потому что многие из них, имея лишь примесь испанской крови, выглядят как самые обычные граждане. Священник, наверное, тоже был латиносом, только цветом лица посветлее, да комплекцией покрупнее типичного испашки. Двое патрульных грелись в машине и высказывали догадки о том, что в нем, наверное, сто или сто десять кило веса и почти два метра роста. Они не могли понять, в какой церкви тот служит. Ни в одной из ближайших церквей не было священников, кто одевался бы, как этот; может, приехал откуда-нибудь из Калифорнии — кажется, в миссиях долины Напа одеваются похоже?
На голове священника в коричневой шерстяной рясе была выбрита тонзура, как у монахов, — лысина блестела в окружении венца волос. Один из патрульных в машине спросил второго, как называется эта коричневая штука на священнике, типа платья. Тот ответил: «Сутана, тупица!» — и первый сказал: «А, да, точно». Оба были новобранцы и работали в восемьдесят седьмом всего две недели, иначе знали бы, что священник — вовсе не священник и даже не монах, хоть и был известен в районе как Брат Антоний.
Брат Антоний делал из противника котлету. Противник — маленький пуэрториканец, бильярдный шулер — совершил большую ошибку, пытаясь его обдурить. Брат Антоний выволок гада из бильярдной и для начала впечатал его в кирпичную стену соседнего дома — так, знаете ли, чтобы слегка оглушить, — а затем шарахнул кием по коленным чашечкам, надеясь их сломать, но сломал только кий. Теперь он безжалостно мутузил шулера огромными, как свиные окорока, кулаками. Двое патрульных наблюдали за представлением из патрульной машины. Брат Антоний весил немало, однако в тюрьме он поднимал тяжести, и жира в его теле не было ни грамма. Иногда он просил кого-нибудь ударить его посильнее в живот и радостно смеялся, когда этот кто-нибудь говорил, какой он крепкий и сильный. Круглый год, даже в жаркие летние месяцы, он носил шерстяную коричневую рясу. В летние месяцы под ней он ничего не носил. Порой он приподнимал подол рясы и показывал сандалии уличным шлюхам.
— Видите? — говорил он. — Больше на мне ничего нет.
Проститутки охали и ахали и пытались задрать рясу повыше, заявляя, что не верят. Брат Антоний хохотал и удалялся, пританцовывая на удивление грациозно для такого здоровяка.
Зимой он сменял сандалии на армейские ботинки. И вот теперь этими ботинками втаптывал тщедушного пуэрториканца в лед. Двое копов в патрульной машине обсуждали, не следует ли им выйти и прервать сражение, не дожидаясь, пока мозги коротышки-латиноса размажут по тротуару.
Но им не пришлось принимать решения, потому что рация выдала сигнал «10–10», и они ответили, что берут вызов. Патрульные отъехали от тротуара как раз в тот момент, когда Брат Антоний склонился над лежащим без сознания мошенником, чтобы вытащить из его кармана бумажник. Всего десять баксов в этом бумажнике принадлежало Брату Антонию, но он рассудил, что вправе забрать все, что там есть, в качестве моральной компенсации. Он опустошал бумажник, когда из-за угла вышла Эмма.
Эмма, по кличке Толстая Дама, была известна в районе как обладательница вспыльчивого нрава и остро отточенной бритвы, поэтому местные обитатели, в большинстве своем, старались держаться от нее подальше. Бритву она носила в сумочке, висящей на левом плече — чтобы правой рукой легко выхватить и молниеносно раскрыть бритву, и отрезать любому чуваку ухо, резануть по лицу или руке, или добыть денег из чужой сумочки, или одним движением вскрыть трахею или яремную вену. С Толстой Дамой никто не любил иметь дела, и, видимо, поэтому, едва она появилась, толпа начала расходиться. Хотя разойтись люди могли и по иным причинам — представление окончилось, и никто не желал зря болтаться на улице в такой холодный день, особенно в этом районе, где почему-то всегда казалось холоднее, чем в любом другом месте города. Словно этот район был Москвой, а парк, окружавший его, — парком Горького.
— Привет, братан, — сказала Толстая Дама.
— Привет, Эмма, — ответил Брат Антоний, поднимая взгляд. Он сидел на корточках над оглушенным противником, довольный тем, как хорошо над ним поработал. Тонкая струйка крови стекала на лед с его тупой головы, а лицо посинело.
Брат Антоний кинул пустой бумажник через плечо, поднялся и сунул добычу — что-то около пятисот баксов — в мешковидный карман впереди рясы. Он двинулся вдоль тротуара, и Эмма пошла рядом с ним.
Эмме было тридцать два или тридцать три года, на шесть или семь лет больше, чем Брату Антонию. Она носила фамилию Форбс с тех пор, как вышла замуж за черного по имени Джимми Форбс. Муж Эммы трагически погиб в результате перестрелки в банке, который он пытался ограбить.
Застрелил Эмминого мужа банковский охранник, отставной патрульный двадцать восьмого участка города. На тот момент охраннику было шестьдесят три года. До шестидесяти четырех он не дожил. Через месяц после похорон мужа, одной прекрасной апрельской ночью, когда только-только зацвели форзиции, Эмма разыскала его и перерезала ему горло от уха до уха. Эмма не любила тех, кто лишал ее или ее близких чего-либо, чего те желали или в чем нуждались. Свои мстительные атаки Эмма любила сопровождать фразой: «Опера не закончена, пока не спела Толстая Дама». Было неясно, выражение предшествовало ее прозвищу или наоборот. При росте метр шестьдесят восемь и весе восемьдесят пять килограммов резонно было ожидать — особенно в этом районе, где клички так же распространены, как и официальные имена, — что рано или поздно кто-нибудь начнет звать ее Толстой Дамой, даже никогда не слыхав ее фразы насчет оперы.


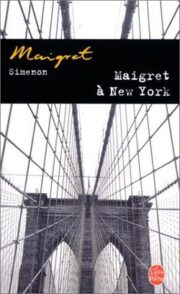



"Восьмой круг. Златовласка. Лед" отзывы
Отзывы читателей о книге "Восьмой круг. Златовласка. Лед", автор: Эд Макбейн. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Восьмой круг. Златовласка. Лед" друзьям в соцсетях.