Много вероятней, что первобытное общество было близко к истинной демократии. Даже сейчас относительно простые сельские общины очень демократичны. Демократия всегда прорывается сквозь хитросплетения цивилизации. Можно сказать, если хотите, что демократия — враг цивилизации; но помните, что многие выберут демократию хотя бы потому, что не любят хитросплетений. Как бы то ни было, крестьяне, возделывающие собственную землю и выбирающие власть прямо под деревом, ближе всех к настоящему самоуправлению. Вполне вероятно, что такая простая мысль пришла в голову и самым простым, первым людям. Даже если люди для нас — не люди, непонятно, почему бы им начинать с деспотии. Даже если вы — поборник эволюции и самый завзятый материалист, у вас нет причин считать, что первые люди не знали товарищества, известного мышам и воронам. Конечно, у них были вожаки, как у всякого стада; но это не значит, что у них была та бессмысленная, раболепная угодливость, какую приписывают подданным Старика. Наверное, там был кто-то, соответствующий, как сказал Теннисон, «многолетней вороне, ведущей домой свою голосистую стаю»[46]. Однако если бы почтенная птица увлеклась подражанием султану, то стая не дала бы ей прожить слишком много лет. Чтобы стать вожаком даже у животных и птиц, мало одной силы; нужно еще что-то, будь то привычность, которую люди зовут традицией, или опыт, который люди зовут мудростью. Не знаю, летят ли вороны за самой старой, но уверен, что они не летят за самой наглой. Зато я знаю другое: быть может, из почтения к старости дикари и слушаются самого старшего, но они не поклоняются самому сильному, ибо не так чувствительны, раболепны и слабы, как мы.
Повторю еще раз: о первобытной власти, как и о первобытной вере и о первобытном искусстве, мы не знаем почти ничего, только строим догадки. Но предположить, что первобытные люди были демократичны, как балканские или пиренейские крестьяне, ничуть не смелее, чем приписать им самодурство турецкого султана. И горная деревушка, и восточный дворец современны, они существуют и сейчас; но дворец напоминает скорее о конце и разложении, деревня — о начале и естественности. Вообще же я ничего не берусь утверждать, я просто разрешаю себе усомниться в современных утверждениях. Сами наши современники успешно отыскивают в прошлом демократию, когда нужно подкрепить притязания расы, нации или философии. Социалисты доказывают, что их идеал некогда был реальностью. Иудеи гордятся справедливостью ветхозаветных времен. Германофилы кичатся зачатками парламента, суда присяжных и многих других установлений у древних германцев. Кельтофилы (как и враги кельтов) ссылаются на то, что в кланах были и равенство, и справедливость. В каждой из этих теорий есть та или иная доля истины; и я подозреваю, что какое-то народовластие не было чуждо древним, простым сообществам. Каждая из упомянутых школ допускает это, чтобы доказать то, что ему сейчас нужно, но все они вместе принимают, что в древности царили не только жестокость и страх.
Как бы то ни было, занавес поднимается в самый разгар игры. Очень трудно представить себе, что была история до истории; но ничего бессмысленного здесь нет. Очень может быть, что эта история похожа на известную нам и отличается от нее только тем, что мы ее не знаем. Таким образом, она прямо противоположна многозначительной «доистории», чьи сторонники смело проводят прямую от амебы к антропоиду и от антропоида к агностику и дают нам понять, что мы знаем все о весьма непохожих на нас существах. На самом же деле, вероятно, доисторические люди были очень похожи на нас, но мы ничего о них не знаем. Другими словами, самые древние источники свидетельствуют о временах, когда люди долго были людьми, мало того, долго были людьми цивилизованными. Источники эти не только упоминают — они принимают как должное царей, жрецов, вельмож, народные собрания. Мы не знаем, что было в мире до этого. Но то немногое, что мы знаем, удивительно похоже на то, что происходит сейчас. Я думаю, мы не погрешим против логики или здравого смысла, если предположим, что в те неведомые века республики сменялись монархиями, монархии — республиками, мировые империи росли и распадались на маленькие страны, народы попадали в рабство и отвоевывали свободу. Мы найдем в доистории все то, что может быть, а может и не быть прогрессом, но, уж точно, похоже на приключенческий роман. К сожалению, первые главы вырваны и мы никогда их не прочтем.
Точно так же мы вправе предположить, что в доисторические времена варварство и цивилизация существовали бок о бок; что тогда, как и сейчас, были цивилизованные общества, были и дикари. Считается, что все прошли через кочевничество, но точно мы знаем, что некоторые так из него и не вышли, и можем предположить, что некоторые в него не входили. Вполне вероятно, что с древнейших времен оседлый земледелец и кочевник-пастух отличались друг от друга, а хронологическая их расстановка — просто симптом того помешательства на прогрессе, которому мы обязаны многими заблуждениями. Предполагают, что все прошли через первобытный коммунизм, когда частной собственности не знали; но свидетельства — лишь в отсутствии свидетельств. Собственность перераспределяли, вводили новые законы, законы эти вообще бывали разными, но вера в то, что когда-то собственности не было, столь же сомнительна, как вера в то, что когда-нибудь ее не будет. Интересна она лишь одним: даже самые смелые замыслы будущего нуждаются в авторитете прошлого и революционер просто вынужден стать реакционером. Занятная параллель — так называемый феминизм. Вопреки лженаучным сплетням об умыкании женщин, все больше говорят о том, что в первобытности правили именно женщины, видимо пещерные дамы с дубинкой. Это не более чем догадки, и постигает их странная судьба всех нынешних домыслов и предрассудков. Во всяком случае, это не история, об этом нет прямых свидетельств, когда же доходит до них, мы видим, что цивилизация и варварство живут бок о бок. Иногда цивилизация поглощает варваров, иногда сама сползает к варварству и всегда содержит все то, что в более грубом, простом виде содержит варварство: власть, авторитет, искусства (особенно изобразительные), тайны и запреты (особенно связанные с полом) и какую-нибудь разновидность того, что я пытаюсь описать в этой книге, и все мы называем религией.
Египет и Вавилон, два древних чудища, могут служить нам прекрасной моделью. То, что мы знаем о них, противоречит двум основным нашим предрассудкам. История Египта как бы нарочно придумана, чтобы доказать, что люди не начинают с деспотии по своей дикости, а кончают ею, приходят к ней, когда достаточно искушены или (что почти то же самое) опустошены. А история Вавилона показывает нам, что совсем не обязательно быть кочевником или членом коммуны, чтобы потом стать крестьянином или горожанином. Кирпичи Вавилона понятней, чем дольмены[47], животные иероглифов понятней наскальных оленей. Ученый, расшифровавший мили иероглифов или клинописи, может поддаться искушению и прочитать слишком много между строк. Даже истинные авторитеты легко забывают, как обрывочны с трудом завоеванные сведения. Но все же — историю, а не доисторию, факты, а не домыслы дают нам именно Египет и Вавилон; и среди фактов этих — две истины, о которых я сейчас говорил.
Египет — зеленая лента вдоль реки, уходящая в багровую бесприютность пустыни. Давно, еще в древности, говорили, что он обязан своим происхождением таинственной щедрости и свирепой милости Нила. Первые известные нам египтяне живут цепочкой вдоль берега, и звенья этой цепочки — маленькие общины, связанные между собою. Там, где река разветвлялась в широкое устье, жили несколько иначе, но это не должно заслонять главного. Более или менее независимые, хотя и связанные друг с другом общины, видимо, были достаточно развиты. Они знали что-то вроде геральдики, использовали изображения как общественный символ, каждая плавала по реке под своим знаком — зверем или птицей. Геральдика же предполагает две очень важные вещи, те самые, которые в совокупности зовутся благородным именем «сотрудничество»; те самые, без которых нет крестьян и нет свободных людей. Искусство геральдики говорит о независимости — человек или община вольны выбрать для себя символ. Наука геральдики говорит о взаимной зависимости — люди и общины согласны признавать чужие символы. Здесь, в Египте, мы застаем согласие и сотрудничество свободных семейств, самый естественный образ жизни, который появляется всюду, где человек живет на собственной земле. При одном упоминании о птице или звере знаток мифологии, как во сне, откликнется: «Тотем». Мне кажется, в том и беда, что мы вспоминаем о тотеме автоматически, словно во сне. В моем поверхностном очерке я настойчиво, хотя и не совсем успешно пытаюсь рассматривать вещи изнутри; идти, где только могу, от мысли, а не от термина. Стоит ли рассуждать о тотеме, если нам неясно, что именно чувствует человек, у которого есть тотем? Ну хорошо, у них тотемы были, а у нас нет; но значит ли это, что они больше любили животных или больше боялись? Если же любили, то как? Как дядюшка Римус братца Волка, или как Франциск брата своего волка, или как Маугли своих братьев волков?[48] Что ближе к тотему — британский лев или британский бульдог? А если боялись, на что был этот страх похож — на детский ночной страх или на страх Божий? Ни одна самая научная книга не ответила мне. Но к этому я еще вернусь. Сейчас же повторю: ранние египетские общины признавали чужие изображения животных, и это помогало им сотрудничать друг с другом. Видимо, общались они и в доистории, ибо с началом истории мы застаем это общение в полном разгаре. Именно поэтому понадобилось прибрежным общинам единое правление, росла власть правителя и все дальше падала его тень.
Не меньшей и, по-видимому, более древней властью пользовались жрецы; по всей вероятности, они были теснее связаны с ритуальными знаками, способствующими общению. Именно здесь, в Египте, может быть, впервые возникло то великое искусство, благодаря которому история отличается от доистории, — первые буквы, древнейшее письмо.

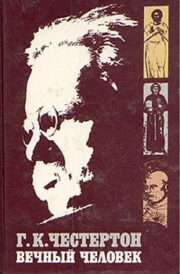
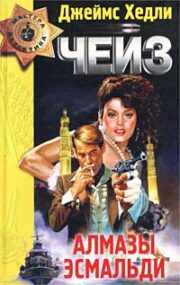
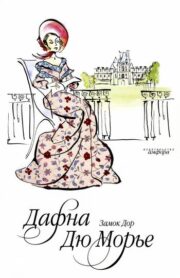
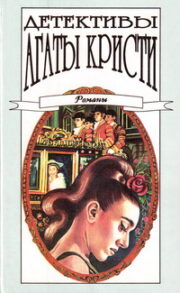

Великолепное произведение Честертона!
Захватывающая история о поисках вечности и преодолении страха!
Удивительное путешествие в поисках вечности!
Эта книга Гилберта Кийта Честертона «Вечный Человек» представляет собой великолепное произведение искусства. Оно поднимает важные вопросы о природе бессмертия и поиске бесконечной жизни. Книга предлагает интересные идеи и представляет их в доступной форме. Она привлекает внимание к важным проблемам и призывает к духовному развитию. Эта книга предоставляет возможность подумать о бессмертии и принять правильное решение в жизни.
Захватывающая история о поисках вечности!
Захватывающая история о преодолении страха и поисках вечности!
Великолепное произведение о поисках вечности!
Захватывающий путь по пространству и времени!