— Central de Policia,[32] — произнес женский голос.
— Здравствуйте, — сказал Уиллис. — Вы говорите по-английски?
— Perdonerne?[33]
— Я звоню из Соединенных Штатов, — объяснил он, избегая слова «Америка»; они очень чувствительны к этому нюансу, — Los Estados Unidos, — сказал он. — Я — полицейский, un policia, — используя свой ломаный испанский, — un detective, — пытаясь придать этому слову, как он полагал, чисто испанское звучание, — дей-тек-тии-веу, — нет ли у вас кого-нибудь, кто говорит по-английски, por favor?
— Одна момента, пожалуйста, — сказала женщина.
Он стал ждать.
Один момент, два момента, три момента, наверное, полных шесть американских моментов набралось на один аргентинский, пока на другом конце раздался мужской голос:
— Teniente Видос, чем могу служить?
— Я — Харольд Уиллис, — начал Уиллис, — детектив третьей категории из Восемьдесят седьмого участка…
— Si, senor?
— Мы тут расследуем одно дело, в котором вы могли бы нам помочь.
— О?
Осторожно.
В мире не найдется копа, который бы хотел, чтоб к его собственным делам, завалившим его по горло, навешивали еще и иностранное расследование. Иностранное — это все, что за пределами его полицейского участка. Если этот участок начинается с соседней двери, все равно он — иностранный! Байя-Бланка — чуть более 300 миль к югу от Буэнос-Айреса, но это точно иностранная территория. Рио-Гальегос — это на границе с Чили, но это практически чужое государство. А Соединенные Штаты? Это где-то там? Даже и не спрашивайте!
Но с ним разговаривал какой-то детектив третьей категории, что, как полагал лейтенант Видос, соответствовало какому-то низшему чину в полиции, и он расследовал дело и нуждался в помощи. Помощи! От полиции Буэнос-Айреса. Norteamericanos[34] — нервная шайка!
— О какой помощи вы говорите? — спросил Видос, надеясь, что по его голосу можно будет безошибочно догадаться, что он не хочет помогать никоим образом. Все, что он хочет, это встретиться со своей женщиной перед тем, как пойти домой. В Аргентине уже без пятнадцати шесть. Вот и все, что он хотел!
— Я располагаю двумя именами, — сказал Уиллис. — Надеюсь, что вы их могли бы пропустить для меня…
— Пропустить их через что? — спросил Видос.
— Через ваш компьютер. Думаю, за ними есть преступления. И, если можно, пошлите телефакс по…
— Какие это могут быть преступления? — спросил Видос.
— Убийство, — резанул Уиллис.
Это как пароль!
«Убийство».
Ни один полицейский в мире не захотел бы навешивать на себя зарубежное дело, но ни один коп в мире не отвернулся бы от убийства. Уиллис знал это. Видос знал это. Оба полицейских тяжело вздохнули. Уиллис — от поддельной усталости из-за многодневного расследования убийства, которое он только что изобрел. Видос — от того, что от этой просьбы у него лишь заболит задница… Но — долг прежде всего!
— Как их зовут? — спросил он.
— Рамон Кастаньеда и Карлос Ортега, — ответил Уиллис.
— Дайте мне номер вашего факса, — сказал Видос.
И Уиллис продиктовал его.
Информация по телефаксу из Буэнос-Айреса пришла этим же вечером в семь часов. А уже восемь было в Аргентине, когда лейтенант Франсиско Рикардо Видос закладывал фотокопии документов в аппарат и матерился из-за того, что пропал вечер с его cita, с его Карлой де Фонт-Альба. В клерикальном отделе 87-го участка сержант Альфред Бенджамин Мисколо, вынимая листы из машины, заметил своему помощнику Хуану Луису Портолесу, что текст идет на испанском, а потом увидел, что на листах стоит штамп «Для Дет/3 Харлоу Уоллеса», и догадался, что это имя Хэла Уиллиса. Пробежав взглядом страницы — их было восемь — Портолес присвистнул и сказал: «Да, это плохие люди, сержант!»
Это, вероятно, относилось к нескольким словам, которые он успел ухватить взглядом. К таким, как:
Robo… — ограбление…
Asalto con lesiones… — нападение с угрозой насилия…
Violacion… — изнасилование…
…и особенно Homicidio — убийство.
Глава 8
Утренний звонок от Кристин Лунд в понедельник был несколько неожиданным. Позавчера, в субботу ночью, у ее дверей, когда она решительно протянула ему руку для прощания, Хейз подумал было, что это — конец всему. Но вот она опять здесь, оживленная и веселая. Она поинтересовалась, завтракал ли он.
— Нет еще.
— Знаешь, я собираю свои вещи в церкви. И подумала, что, если оказалась рядом…
— Чудесно, — отозвался он. — Мне заехать за тобой?
— А что, если я еще раз приду в участок? — спросила она. — Может быть, надо снова снять отпечатки пальцев?
— Может быть, — согласился Хейз, удивляясь, зачем надо было в субботу пожимать друг другу руки… «Актриса!» — подумал он и покачал головой.
— Через полчаса будет нормально? — спросила она.
— Отлично!
— Я даже не знала, работаешь ли ты сегодня, — сказала она.
— А что такое?
— Сегодня же — День Поминовения!
— Ах да!
Для полицейских праздники и будни — на одно лицо!
— Но я рада, что ты оказался на месте, — сказала она. — Пока!
И повесила трубку.
Он тоже повесил трубку и взглянул на часы. Пятнадцать минут восьмого. Посидел несколько секунд, тупо глядя на свет, струящийся сквозь забранные решеткой окна, еще не придя в себя от удивления.
Полицейский в мундире вручил Карелле конверт «Федерального экспресса» через десять минут после того, как Хейз вышел из комнаты. Коп объяснил, что конверт лежал в груде других бумаг внизу, на столике для срочных бумаг, и сержант Мерчисон только сейчас его обнаружил. Но свои извинения за задержку он произносил с легким оттенком сарказма.
В красно-синем конверте лежало письмо отца Майкла сестре, отправленное 12 мая. Оно было написано на церковном бланке, в верхней части страницы рельефными черными буквами было оттиснуто: Римско-католическая церковь Святой Екатерины, и адрес. Отец Майкл написал письмо от руки, но в почерке невозможно было углядеть каких-то проявлений душевной тревоги, которая заставила его исповедоваться перед старшей сестрой. Напротив, буквы были мелкие и четкие, слова равномерно шагали по странице, как будто маршировали под бой невидимого барабана.
«Моя дорогая сестра!
Уже очень давно мы не беседовали с тобой на серьезные темы, и, я полагаю, это во многом из-за того, что мы живем совершенно разными и отдаленными жизнями. В любом случае, мне так не хватает этих задушевных, искренних бесед, которые мы вели с тобой, когда я был ребенком, и твоих добрых советов, которые ты мне не раз давала. Кстати, не последним из них был совет следовать зову сердца и посвятить себя служению Господу нашему, Иисусу Христу.
Пишу это письмо, все еще надеясь, что могу поделиться с тобой самыми сокровенными чувствами.
Ирен, я в большой тревоге.
Дело в том, что совсем недавно, перед самой Пасхой я стал всерьез сомневаться в своих способностях любить Господа и служить Ему так же преданно, как я поклялся это делать. Я дошел до такого состояния, что не могу смотреть в глаза прихожанам по воскресеньям, слушать исповеди, руководить молодежью из нашей католической организации, давать советы тем, кто в них нуждается — короче, исполнять обязанности и долг пастыря.
Мое отвращение к себе достигло крайней точки в воскресенье на Пасху, когда я не смог выбраться из ситуации всепоглощающей и истощающей. Тогда я понял, что оказался в дьявольской ловушке и стал опасен не только для себя и агнцев моего стада, но и для самого Господа!
Не знаю, что делать, Ирен. Прошу тебя, помоги.
Твой любящий брат Майкл».
Карелла перечитал письмо, а потом обратился к первому абзацу ответного письма Ирен к брату:
«Мой дражайший брат!
Только что получила твое письмо от 12 мая и не могу тебе описать, с каким опечаленным сердцем спешу тебе ответить. Майкл, как ты сумел воздвигнуть в себе такую башню сомнений? И не кажется ли тебе, что ты должен поделиться своими тревогами с епископом твоей епархии? Я просто не знаю, что тебе посоветовать».
И это сестра, которая в дни юности Майкла Берни «не раз давала ему добрый совет»! Карелла воспринял это письмо как отказ. «Не приставай со своими проблемами, я еду в Японию. До отъезда я тебе позвоню, и мы приятно поболтаем. К тому времени над тобой опять будут голубые небеса. К тому же, я знаю, ты сможешь обрести в молитве просветление и спасение». Бедный, измученный сукин сын с кем-то связался, как это выяснилось после, но ее нельзя беспокоить. А вчера на похоронах — глаза, полные слез. Карелла покачал головой.
Потом отправился в клерикальный отдел, снял копию с письма отца Майкла и желтым фломастером выделил слова и предложения, представлявшиеся ему важными для расследования:
«Дело в том, что совсем недавно, перед самой Пасхой…»
Значит, эта связь началась «перед самой Пасхой». «Перед самой» — понятие относительное, может означать и за два дня до Пасхи, или две недели, или даже два месяца. Во всяком случае, он не говорит «давным-давно». Его точные слова — «совсем недавно». Отметим это.
«Мое отвращение к себе достигло крайней точки в воскресенье на Пасху…»
Опять Пасхальное воскресенье! В тот же день Натан Хупер искал убежища в церкви. Тогда же он слышал, как отец Майкл спорил с невидимым мужчиной. Тогда же священник прогнал Бобби Корренте и его дружков.
«…когда я не смог выбраться из ситуации всепоглощающей и истощающей».
Не связано ли это со спором, который был у него с неизвестным, невидимым мужчиной? А не спорили ли они по этому поводу…



![Алмаз раздора. До и после Шерлока Холмса [сборник]](https://detectiveworld.ru/wp-content/uploads/almaz-razdora-do-i-posle-sherloka-holmsa-sbornik-180x270.jpg)

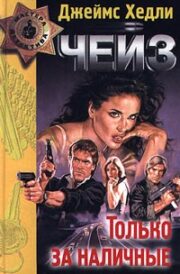
"Вечерня" отзывы
Отзывы читателей о книге "Вечерня", автор: Эд Макбейн. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Вечерня" друзьям в соцсетях.