Несколько лет назад мне довелось проехать по южным графствам Англии в компании одной своей хорошей знакомой. Мы путешествовали в открытом экипаже, останавливаясь лишь на несколько часов – иной раз ежедневно, а порой и не чаще раза в неделю – в местах, хоть чем-то заслуживавших внимания. При этом очередной этап своей поездки мы старались завершить утром, дабы дать лошадям возможность отдохнуть, а самим насладиться ржаным хлебом, парным молоком и свежими яйцами – завтраком, который всё ещё подают в наших сельских гостиницах, стремительно превращающихся в разновидность археологического реликта.
– Завтракать будем в Т***, – как-то вечером сообщила мне спутница. – Мне хотелось бы навести там справки о семействе Ловелл. Я познакомилась с ними – мужем, женой и двумя очаровательными детьми – однажды летом в Эксмауте. Мы сошлись очень близко, и Ловеллы показались мне людьми необычайно интересными, но с тех пор я их больше не видела.
Утро встретило нас солнышком – столь ослепительным, что сердцу грех было не возрадоваться, – и мы, в полной мере насладившись утренним отрезком маршрута, около девяти часов достигли окрестностей города.
– О, какая чýдная гостиница! – воскликнул я, когда мы подъехали к белому домику со знаком, раскачивавшимся у входа, и цветочной клумбой у боковой стены.
– Остановитесь, Джон! – крикнула моя попутчица. – Думаю, здесь нас ждёт завтрак куда здоровее и вкуснее любого городского. Если же в городе найдётся на что посмотреть, доберёмся туда пешком.
Мы спустились по ступенькам экипажа и были препровождены в уютную маленькую гостиную с белыми занавесками. Вскоре стол был накрыт, и мы сели за незатейливый деревенский завтрак.
– Скажите, известно ли вам что-нибудь о семействе Ловелл? – спросила моя знакомая (звали её миссис Маркхэм). – Мистер Ловелл, насколько мне известно, был священником.
– Известно, мэм, – ответила прислуживавшая нам девушка, судя по всему хозяйская дочка. – Он – настоятель нашего прихода.
– Вот как? И живёт неподалёку?
– Да, мэм, в доме викария. Это – вниз по той дорожке: отсюда будет около четверти мили. Можете, если хотите, пройтись полем, вон к той башенке, – пожалуй, так будет поближе.
– А какой путь приятнее? – поинтересовалась миссис Маркхэм.
– Думаю, полем, мэм, – если, конечно, вас не отвратит перспектива дважды подняться и спуститься по ступенькам вдоль живой изгороди. Кстати, пройдясь полем, вы сможете получше рассмотреть наше аббатство.
– Башенка, что там виднеется, – тоже его часть?
– Да, мэм, – отвечала девушка, – дом викария как раз за нею.
Получив все необходимые указания, сразу же после завтрака мы отправились по полю и после очень приятной двадцатиминутной прогулки оказались на церковном дворике среди развалин, которые по живописности могли бы поспорить с шедеврами самого буйного воображения. Кроме той самой башни, что видна была из гостиницы и, несомненно, служила колокольней, строений тут почти не осталось. Сохранилась внешняя стена алтаря и полуразрушенная ступенька, которая когда-то вела, очевидно, к престолу. Видны были останки церковных приделов и части аркады, изысканно убранные гирляндами из мха и плюща. То тут, то там среди поросших травой безвестных могил возвышались массивные гробницы здешних мадам Марджери и сэров Хильдебрандов, имевших счастье родиться и умереть в более романтические времена.
Повсюду царили упадок и тлен. Но сколь поэтичен был этот упадок… и как живописен тлен!
Из-за высокой серой башни выглядывал необычайно красивый, словно улыбающийся, садик; там же виден был и милейший коттеджик – трудно было даже поверить, что он настоящий. День искрился яркими красками: изумрудная трава, весёленькие цветочки, воздух, напоённый сладкими ароматами, и птицы, щебечущие в листве яблонь и вишен, – всё, казалось, пришло вдруг в неописуемый восторг от самой радости жизни.
– Ну что же, – заговорила моя спутница, устраиваясь на обломке колонны и оглядываясь по сторонам, – теперь, всё это увидев, я начинаю лучше понимать, что за люди были Ловеллы.
– И что же это были за люди? – поинтересовался я.
– Ну, прежде всего, как я уже сказала, они были интересны тем, что являли собой необычайно привлекательный супружеский дуэт.
– Вряд ли особенности здешней местности могли иметь к этому непосредственное отношение, – заметил я.
– Не думаю, что вы правы, – возразила миссис Маркхэм. – Душа человека, хотя бы отчасти наделённого вкусом и интеллектом, невольно гармонирует с окружающей средой. Столь божественная красота не может не наложить на душу свой отпечаток: невольно, но явно – она подчёркивает красоту, сглаживая любое уродство. Ловеллы поразили меня не только внешне: от них исходило ощущение чистоты и благородства в лучшем смысле этого слова, я бы даже сказала, аристократизма, хоть о происхождении обоих мне ровным счётом ничего не известно. Совершенно очевидно было, что люди эти бедны, но при этом и довольны своей судьбой! Теперь я понимаю, почему счастливец, поселившийся среди таких красот, обретает способность радоваться малому, – разве не тут воплощаются в жизнь грёзы поэтов, воспевших рай в шалаше? Даже бедность кажется здесь такой романтичной… Кстати, и ренты платить не нужно…
– Верно подмечено, – согласился я. – Особенно если предположить, что у этой парочки шестнадцать детей – как было у одного офицерика на половинном окладе, которого я однажды повстречал на борту пакетбота.
– Да, это могло бы действительно слегка подпортить идиллию, – согласилась миссис Маркхэм. – Но давайте же надеяться, что это не так. У Ловеллов, когда я познакомилась с ними, было двое детей: Чарльз и Эмили – более очаровательных созданий я в жизни своей не встречала!
Поскольку время для визита (так решила моя спутница) было раннее, мы ещё около часа продолжали беседовать в том же духе, то присаживаясь на могильные камни и рухнувшие колонны, то рассматривая россыпи резных обломков, то заглядывая через зелёную изгородь в маленький садик, воротца которого виднелись за колокольней. Погода стояла тёплая, так что большинство окон в домике викария были распахнуты с опущенными шторами.
За всё это время мы не увидели там ни души и теперь подумывали уже о том, чтобы предстать-таки перед хозяевами на пороге, как вдруг откуда-то донеслись звуки музыки.
– Послушайте, какая изысканность! – в восторге воскликнул я. – Для полноты идиллии на хватало только этой детали.
– Кажется, это военный оркестр, – заметила миссис Маркхэм. – Вы обратили внимание, что по пути к гостинице мы прошли мимо казарм?
Звуки музыки, торжественной и медлительной, подплывали всё ближе; похоже, оркестр приближался к той самой дорожке, окаймлявшей поле, по которой пришли сюда мы. Вдруг в сердце моём словно что-то оборвалось.
– Тише! – Я опустил ладонь на руку собеседнице. – Они играют похоронный марш. Слышите приглушённую дробь барабана? Это похоронная процессия… но где же могила?
– Вот! – Миссис Маркхэм указала на вскопанную землю прямо под зелёной оградой; свежевырытая яма была прикрыта доской, вероятно, чтобы избежать несчастного случая.
Есть ли на свете что-либо более трогательное и впечатляющее, печальное и вместе с тем прекрасное, чем церемония воинского погребения? Обычные похороны, с их неуклюжими катафалками, безвкусными венками, тупыми статистами в чёрном и нанятыми плакальщицами, всегда казались мне насмешкой над памятью усопшего. Всё в них неискренне, всё на грани гротеска, и совсем не ощущается острого дыхания смерти – того внезапного напоминания, что само по себе способно заставить самого несчастного человека вдруг ощутить радость бытия. Над всем тут витает дух какого-то преувеличенного уныния, громоздкой скорби. Лишь тот, кого трагедия затронула лично, может не заметить всей абсурдности этого ужасающего бурлеска.
Но на военных похоронах всё не так! Это – смерть, царящая на празднике жизни, но вместе с тем и жизнь, обретённая в вечности. Без переигрывающих актёров и всеобщей натужности церемония эта – скромная и тихая, сдержанная и красочная – несёт в себе что-то жизнеутверждающее. Слёзы здесь – знак глубокой печали, и очень легко представить себе, как – пока люди, лишившиеся брата, с которым «ещё вчера делили хлеб да соль», под звуки торжественной музыки тихо обмениваются воспоминаниями о проведённых вместе счастливых днях – душа умершего, освобождённая и умиротворённая, плывёт, подгоняемая дыханием ожившей Гармонии, к своему небесному пристанищу. Сердца человеческие смягчаются, фантазия воспаряет ввысь, вера оживает – и мы покидаем кладбище, облагороженные сим возвышенным зрелищем.
Такие мысли (или нечто в этом роде) занимали нас с миссис Маркхэм, пока мы молча стояли, прислушиваясь к звукам музыки.
В чувство мы пришли, лишь когда скрипнули воротца, соединявшие церковный двор с садиком, однако в первую минуту никто не появился, поскольку вошедшие всё ещё находились за колокольней.
Почти в то же время с противоположной стороны на кладбище вошёл мужчина, приблизился к тому месту, где видна была вскопанная земля, и отбросил доску, открыв свежевырытую могилу. За ним проследовала сюда сначала группа мальчишек, затем – несколько вполне респектабельного вида граждан. Приглушённые барабаны звучали всё слышнее. Наконец глазам нашим предстал отряд стрелков с нацеленными в землю ружьями и возглавлявший процессию офицер. У каждого из них на рукаве была чёрная траурная лента и рядом – белая, из сатина. Печальный марш не умолкал.
Затем шестеро солдат внесли на руках гроб, столько же офицеров – все совсем ещё молодые люди – держали его покров, на котором лежали кивер, сабля, пояс и белые перчатки покойного.
Далее на кладбище парами проследовали люди, пришедшие попрощаться с умершим, – сначала гражданские, за ними – военные. Здесь не слышалось приглушённой праздной болтовни, не заметно было блуждающих взглядов; на лицах этих лежала печать искренней скорби: если кто-то и позволял себе проронить слово, то шёпотом, и по едва заметному печальному кивку головы сразу можно было понять, о ком идёт речь.

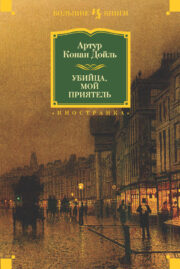

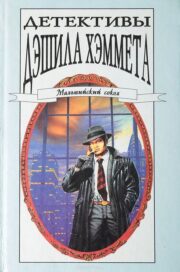
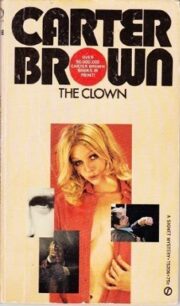
"Убийца, мой приятель (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Убийца, мой приятель (сборник)", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Убийца, мой приятель (сборник)" друзьям в соцсетях.