— Оно исчезло.
Чемпион снова присвистнул.
— Слыхал я, что здесь водится какая-то нечисть, — сказал он, — но мой вам совет: держитесь от всего этого подальше. С людьми и на этом свете хлопот не оберешься, Джим, и нечего из кожи вон лезть, чтобы повстречаться еще и с выходцами с того света. Ну, а на Родни Стоуне совсем лица нет. Если б матушка увидела его сейчас, она бы уж больше никогда не пустила его в кузницу. Идите потихоньку, я вас догоню и провожу домой.
Мы прошли с полмили, когда Гаррисон нагнал нас, я заметил, что узла у него на плече уже не было.
Когда мы подошли почти к самой кузнице, Джим задал вопрос, который все время вертелся у меня на языке.
— А вы-то зачем ходили в замок, дядя?
— С годами у человека появляются обязанности, о которых несмышленыши, вроде вас, и понятия не имеют, — сказал он. — Когда вам будет под сорок, вы, может, и сами это поймете.
Больше нам ничего не удалось из него вытянуть; но хоть я был в ту пору еще совсем мальчишка, я слыхал разговоры про контрабандистов и про тюки, которые они ночью прячут в укромных местечках, так что с той ночи стоило мне узнать, что береговая охрана поймала очередную жертву, я не успокаивался, пока не видел в дверях кузницы веселую физиономию Чемпиона Гаррисона.
Глава III
АКТЕРКА ИЗ ЭНСТИ-КРОССА
Я рассказал вам кое-что про Монахов дуб и про то, как мы там жили. Теперь, когда память возвратила меня в старые места, я с радостью задержусь там, ибо каждая нить из клубка прошлого тянет за собою другие нити. Когда я взялся за перо, меня одолевали сомнения, я не знал, достанет ли мне событий на целую книгу, но теперь вижу, что вполне мог бы написать книгу об одном только Монаховом дубе и о людях моего детства. Кое-кто из них был, без сомнения, суров и неотесан, но сквозь золотистую дымку времени все они кажутся мне милыми и славными. Вот наш добрый священник, мистер Джефферсон, он любил весь мир, кроме одного только мистера Слэка, баптистского проповедника в Клейтоне; или добросердечный мистер Слэк, — для него все люди были братья, кроме мистера Джефферсона, священника из Монахова дуба. А вот мосье Рюдэн, французский роялист, эмигрант, живший на Пэнгдинской дороге. Когда он узнал о поражении Буонапарте, с ним сделались судороги от счастья, а потом его сотрясла ярость, потому что это ведь было и поражение Франции; так что после битвы на Ниле он рыдал от восторга, а на другой день — от бешенства, то хлопая в ладоши, то топая ногами. Помню, какой он был худой, и как прямо держался, и как изящно помахивал тросточкой; его не могли сломить ни холод, ни голод, хотя и того и другого на его долю приходилось в избытке. Он был горд и обращался с людьми с такою важностью, что никто не осмеливался предложить ему еду или одежду. Помню, какие красные пятна выступили на его худых скулах, когда мясник преподнес ему говяжьи ребра. Он не мог от них отказаться, но, выходя из лавки с высоко поднятой головой, он через плечо метнул в мясника гордый взгляд и сказал:
— У меня есть собака, сударь!
Однако всю следующую неделю сытый вид был у самого мосье Рюдэна, а не у его собаки.
Помню еще фермера Пейтерсона, теперь бы его назвали радикалом, а в ту пору как только его не обзывали — и прихвостнем Пристли[8], и прихвостнем Фокса[9], а чаще всего изменником. Тогда мне и в самом деле казалось, что только очень дурной человек может хмуриться, услыхав о победе англичан; и мы с Джимом не стояли в стороне, когда у ворот фермы Пейтерсона сжигали соломенное чучело, изображавшее его самого. Но нам пришлось признаться, что он, может, и изменник, а все равно смельчак — как всегда, в коричневом сюртуке и в башмаках с пряжками, он большими шагами вышел из дому, прямо к нам, и отблески пламени плясали на его суровом лице школьного учителя. Ох, и задал же он нам головомойку, и как же мы были счастливы, когда наконец удалось потихоньку ускользнуть оттуда.
— Вы напичканы ложью! — сказал он. — Вы и вам подобные уже чуть не две тысячи лет проповедуете мир и только и делаете, что уничтожаете друг друга. Если бы все деньги, которые пошли на уничтожение французов, были потрачены на спасение англичан, вот тогда в самом деле стоило бы зажечь в окнах благодарственные свечи. Кто вы такие, как вы смели ворваться сюда и оскорбить человека, послушного закону?
— Мы народ Англии! — выкрикнул юный Овингтон, сын сквайра-тори.
— Это вы-то?! Да вы только и знаете, что скачки да петушиные бои, а что такое справедливость, об этом вы понятия не имеете! И вы осмеливаетесь говорить от имени народа Англии? Народ — это глубокий, могучий, безмолвный поток, а вы пена, пузыри, жалкая, бесполезная пена, которая плывет на поверхности.
Тогда он казался нам очень скверным человеком, но сейчас, оглядываясь назад, я склонен думать, что и мы, пожалуй, были не лучше.
А еще у нас были контрабандисты! Даунс кишел ими; ведь законная торговля между Францией и Англией была запрещена, и все шло теперь по этому каналу. Однажды вечером я лежал в темноте на общественном выгоне среди орляка, и мимо бесшумно, точно форель в ручье, проскользнуло мулов семьдесят, и каждого вел человек. Каждый контрабандист к тому же нес по крайней мере два бочонка настоящего французского коньяка, либо тюк лионского шелку, либо валансьенских кружев. Я знавал Дэна Скейла, вожака контрабандистов, и Тома Хислопа, офицера береговой охраны, и помню, как однажды вечером они встретились.
— Будешь драться, Дэн? — спросил Том.
— Да, Том, так просто не сдамся.
И тогда Том вынул пистолет и выстрелил Дэну в голову.
— Не хотелось мне его убивать, — рассказывал он потом, — но я знал: мне с ним не справиться, нам ведь уже приходилось встречаться.
И Том сам заплатил какому-то стихотворцу из Брайтона, чтобы тот сочинил эпитафию, и стихи эти всем нам казались очень искренними и хорошими. Они начинались так:
Увы! Не медлит пуля роковая,
Летит, чело младое пробивая, —
И пал он, вздох последний испустил,
Навеки очи томные смежил…
Там были и другие строчки, наверно, эпитафию еще и сегодня можно отыскать на Пэтчемском кладбище.
Однажды, вскоре после нашего похода в замок, я сидел дома, разглядывал всякие диковинки, которые отец развесил по стенам, и, как все ленивые мальчишки, от души жалел, что мистер Лилли не умер до того, как написал латинскую грамматику; матушка вязала что-то, сидя у окна, и вдруг удивленно вскрикнула:
— Боже милостивый! Какая вульгарная особа!
Матушка так редко говорила о ком-нибудь плохо (кроме генерала Буонапарте), что я вскочил и кинулся к окну. По улице медленно двигалась коляска, запряженная малорослой лошадкой, и в ней сидела чудная-пречудная дама. Сама толстая, поперек себя шире, а лицо такое красное, что багровые щеки и нос даже отсвечивают лиловым. На голове большущая шляпа с изогнутым белым страусовым пером, а из-под полей глядят дерзкие черные глаза. Глядят так гневно, с вызовом, точно она говорит каждому встречному: можете думать обо мне, что хотите, но уж я-то вас ни в грош не ставлю. На плечи ее накинуто было что-то вроде пунцовой мантильи, отделанной у шеи белым лебяжьим пухом, вожжи совсем провисли, а лошадь шла то по одной стороне дороги, то по другой — как вздумается. Коляска покачивалась, и голова в большущей шляпе тоже покачивалась в такт, и нам видно было то донце, то поля.
— Какой ужас! — воскликнула матушка.
— А что с ней?
— Да простит меня бог, если я ошибаюсь, но, по-моему, она пьяна, Родди.
— Смотрите-ка, — закричал я, — она остановилась у кузницы! Сейчас я все узнаю. — И, схватив шапку, я стремглав кинулся вон из дому.
В дверях кузницы Чемпион Гаррисон подковывал лошадь, и, когда я выскочил на улицу, он стоял на коленях, копыто было зажато у него под мышкой, а в руке он держал рашпиль. Женщина в коляске манила его пальцем, он уставился на нее, и лицо у него было какое-то странное. Наконец он бросил рашпиль, подошел к ней, остановился у колеса и, покачивая головой, стал что-то ей говорить. А я проскользнул в кузницу, где Джим доделывал подкову, и стал смотреть, как он споро работает, как ловко загибает заклепки. Он все сделал, вынес подкову, а чудная женщина все разговаривала с его дядей.
— Это он? — донесся до меня ее вопрос.
Чемпион Гаррисон кивнул.
Она подняла на Джима глаза — в жизни я не видал у человека таких больших, таких черных, удивительных глаз. И хоть я был совсем мальчишка, я понял, что это обрюзгшее лицо было когда-то очень красивым. Она протянула руку (пальцы у нее шевелились, словно она играла на клавикордах) и тронула Джима за плечо.
— Надеюсь… надеюсь, ты здоров, — запинаясь, произнесла она.
— Совершенно здоров, сударыня, — ответил Джим, переводя взгляд с нее на дядю.
— И ты всем доволен?
— Да, сударыня, благодарю вас.
— И нет ничего такого, чего бы тебе очень хотелось?
— Да нет, сударыня, у меня все есть.
— Ну, иди, Джим, — строго сказал дядя. — Раздуй горн, эту подкову надо перековать.
Но женщина, видно, хотела еще поговорить с Джимом и рассердилась, что его отослали. Глаза ее сверкнули, она вскинула голову, а кузнец, казалось, пытался ее успокоить. Они долго шепотом переговаривались, и под конец она как будто утихомирилась.
— Так, значит, завтра? — громко спросила она.
— Завтра, — ответил он.
— Вы сдержите свое слово, а я сдержу свое, — сказала она и тронула кнутом лошадку.
И пока она не превратилась в красную точку далеко на белой дороге, кузнец все стоял с рашпилем в руках и смотрел ей вслед. Потом он обернулся, а лицо у него было печальное-печальное, никогда еще я его таким не видел.


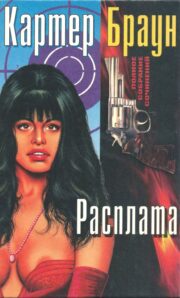

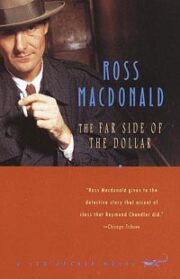

Книга Артура Конан Дойла предлагает нам невероятные приключения и потрясающие персонажи. Я поражена как автор может представить такую жизненную историю.
Книга Артура Конан Дойла предлагает нам приключения и драму в одном пакете. Я поражена глубиной и детализацией каждой истории.
Книга Артура Конан Дойла предлагает нам прекрасную комбинацию приключений и драмы. Я поражена как автор смог представить такие живые и динамичные истории.