— Да, кстати, мистер Хедли, — заметил он. — Насколько мне известно, вы не женаты?
— Нет, — ответил я.
— И на вашем попечении нет никого из близких?
— Нет.
— Прекрасно, — сказал он. — Я молчал пока о своих намерениях, у меня были причины дерясать их в тайне. Прежде всего я боялся, что меня могут опередить. Когда разглашаются научные идеи, их могут предвосхитить другие — как Амундсен осуществил идею Скотта. Если бы Скотт, как я, хранил свое намерение в тайне, то не Амундсен, а он первый достиг бы Южного полюса. Мой замысел так же смел и велик, потому я и молчал. Но сейчас мы подходим вплотную к его осуществлению, и никакой соперник не успеет опередить меня. Завтра мы поплывем к нашей настоящей цели.
—Какая же это цель? — спросил я.
Он весь подался вперед, и его аскетическое лицо зажглось энтузиазмом фанатика.
—Наша цель, — сказал он, — дно Атлантического океана!
Здесь я должен остановиться, ибо думаю, что у вас, как и у меня, захватило дыхание. Будь я писателем, тут бы я, наверно, и закончил свой рассказ. Но так как я всего лишь летописец, то могу добавить, что пробыл еще час в каюте Маракота и узнал много подробностей, которые успею передать вам, пока не отчалит последняя береговая шлюпка.
—Да, молодой человек! — сказал он. — Теперь вы можете писать что угодно. Когда ваше письмо достигнет Англии, мы уже нырнем.
Он усмехнулся. Он был не лишен некоторого суховатого юмора.
—Да, сэр, «нырнем». Это — самое подходящее слово в данном случае, и этот нырок войдет в историю науки. Я твердо убежден, что ходячее мнение об огромном давлении океана на больших глубинах лишено оснований. Совершенно ясно, что существуют другие факторы, нейтрализующие это действие, хотя пока я еще не сумею сказать, какие. Именно это одна из тех задач, которые мы должны решить.
— Как вы полагаете, каково давление воды на глубине одной мили?
— Он сверкнул на меня глазами сквозь большие роговые очки.
— Не менее одной тонны на квадратный дюйм, — ответил я. — Это доказано.
— Задача пионера науки всегда состояла в том, чтобы опровергать то, что было доказано. Пошевелите-ка мозгами, молодой человек! Весь последний месяц вы вылавливали самые нежные глубоководные формы жизни — существа столь нежные, что вам еле-еле удавалось перенести их из сетки в банку, не повредив их чувствительных покровов. Что же, это подтверждает существование чрезвычайного давления?
— Давление уравновешивалось, — ответил я. — Оно одинаково изнутри и снаружи.
— Пустые слова! — крикнул Маракот, нетерпеливо дернув головой. — Вы вытаскивали круглых рыб, как, например, gastrostomus globulus. Разве их не расплющило бы в лепешку, если бы давление было таково, как вы полагаете? Или же посмотрите на наши глубинные тралы. Ведь они не сплющиваются даже на самых больших глубинах.
— Но опыт водолазов...
— Конечно, его следует учитывать. Они действительно замечают увеличение давления, испытывая его действие на самый, пожалуй, чувствительный орган тела — на внутреннее ухо.{4} Но, по моим предположениям, мы совершенно не будем подвергаться давлению. Нас опустят вниз в стальной клетке с толстыми хрустальными окнами для наблюдений. Если давление недостаточно сильно, чтобы вдавить внутрь четыре сантиметра закаленной двухромоникелевой стали, оно не повредит нам. Мы продолжим эксперимент братьев Вильямсон в Насау, с которым вы, наверно, знакомы. Если мой расчет ошибочен — ну что ж, вы говорите, от вас никто не зависит... Мы умрем во время великого опыта. Конечно, если вы предпочитаете уклониться, я могу отправиться один.
Мне показалось, что это самый безумный из всех мыслимых проектов, но вы знаете, как трудно отказаться от вызова. Я решил оттянуть время для решения.
—На какую глубину вы намерены опуститься, сэр? — спросил я.
Над его столом была приколота карта; он укрепил конец циркуля в точке к юго-западу от Канарских островов.
— В прошлом году я зондировал эти места, — сказал он. — Там есть очень глубокая впадина. Семь тысяч шестьсот двадцать метров. Я первый сообщил об этой впадине. Надеюсь, в будущем вы найдете ее на картах под названием «Маракотова бездна».
— Неужто вы собираетесь спуститься в эту бездну, сэр? — воскликнул я.
— Нет, нет, — с улыбкой ответил Маракот. — Ни наша спускная цепь, ни трубки для воздуха не достигают больше полумили! Но я хотел объяснить вам, что вокруг этой глубокой впадины, которая, несомненно, была образована вулканическими силами, находится приподнятый хребет или узкое плато, которое лежит на глубине трехсот фатомов{5}.
— Трехсот фатомов? Треть мили! — воскликнул я.
— Да, примерно треть мили. Я хочу, чтобы нас спустили в маленькой наблюдательной кабинке именно на это плато. Там мы сделаем все возможные наблюдения. С судном нас будет соединять разговорная трубка, и мы сможем передавать наши приказания. С этим не будет никаких затруднений. Когда захотим, чтобы нас подняли, достаточно будет лишь сказать об этом в трубку.
— А воздух?
— Будет накачиваться к нам вниз.
— Но ведь там будет совершенно темно!
—Боюсь, что да. Опыты Фоля и Сарасэна на Женевском озере доказывают, что на такую глубину не проникают даже ультрафиолетовые лучи. Но какое это имеет значение? Мы будем снабжены мощным электрическим током от судовых машин, дополненным шестью двухвольтовыми сухими элементами Хэллесена, соединенными между собой, чтобы давать ток в двенадцать вольт. Вместе с сигнальной лампой Люка военного образца в качестве подвижного рефлектора нам этого вполне хватит. Что еще вас смущает?
—А если наши воздушные трубки запутаются?
—Не запутаются! А на всякий случай у нас есть сжатый воздух, которого нам хватит на сутки. Ну как, удовлетворяют вас мои пояснения? Согласны вы? — спросил Маракот.
Решение предстояло нелегкое. Мозг мой быстро работал, а воображение — еще того быстрее. Я уже явственно представлял себе этот черный ящик, опущенный в первобытные глубины, чувствовал спертый воздух, видел, как гнутся стены камеры, как вода разрывает их в местах скрепления и проникает во все щели и трещины, которые все расширяются... Мне предстояло умереть медленной, ужасной смертью! Но я поднял взгляд: огненные глаза старика были устремлены на меня, и в них светилось воодушевление мученика науки. Энтузиазм такого рода заразителен, и если это — безумие, то по крайней мере благородное и бескорыстное. Пламя его перекинулось на меня, я вскочил и протянул ему руку.
—Доктор, я с вами до конца! — воскликнул я.
—Я так и знал, — ответил он. — Я вас выбирал не за ваши поверхностные научные знания, мой молодой друг, — улыбаясь, добавил он, — а также и не за ваше близкое знакомство с крабами. Есть другие качества, которые могут оказаться для нас куда важнее. Это верность и мужество.
Поймав меня таким образом на кусок сахару, он отпустил меня. И все мои планы на будущее рассыпались в прах. Ну, вот сейчас отвалит последняя береговая шлюпка! Спрашивают, нет ли писем на берег. Вы или никогда уже больше не услышите обо мне, мой дорогой Толбот, или получите письмо, стоящее того, чтобы его прочитать. Если от меня не будет вестей, можете зафрахтовать плавучий надгробный памятник и прикрепить его на якоре где-нибудь южнее Канарских островов, написав на нем:
«Здесь или где-либо поблизости покоится все, что оставили рыбы от моего друга Сайреса Дж. Хедли».
Второй документ — неразборчивая радиограмма, которую уловили разные суда, в том числе и почтовый пароход «Аройя». Она была принята в три часа дня 3 октября 1926 года, и это доказывает, что она была отправлена всего через два дня после отплытия «Стратфорда» с Больших Канарских островов, что подтверждается и письмом Хедли. Это приблизительно совпадает с тем временем, когда норвежское судно видело гибнущую в циклоне яхту в двухстах милях от порта Санта-Крус. Радиограмма гласила:
«Лежим на боку. Положение безнадежное. Только что потеряли Маракота, Хедли, Сканлэна.
Местоположение непонятно. Носовой платок Хедли на конце глубоководного лота. Господь да поможет нам...
Яхта "Стратфорд" ».
Это было то последнее непонятное сообщение, которое дошло со злополучного судна, и конец радиограммы такой странный, что его сочли бредом радиотелеграфиста. Однако сама радиограмма, казалось, не оставляла сомнения относительно судьбы судна.
Объяснение этого случая, если это можно принять в качестве объяснения, следует искать в записках, найденных в стеклянном шаре, и прежде всего я нахожу нужным расширить появившийся в печати очень краткий отчет о находке этого шара. Я беру его дословно из вахтенного журнала «Арабеллы Ноулз», направлявшейся под командой Амоса Грина с грузом угля из Кардифа в Буэнос-Айрес.
«Среда, 5 января 1927 года. Широта 27° 14', западная долгота 28°. Спокойная погода. Голубое небо с низкими перистыми облаками. Море как стекло. Во вторую склянку средней вахты первый помощник доложил, что заметил сверкающий предмет, который выпрыгнул из моря и затем упал обратно. Его первое впечатление было, что это какая-то неизвестная ему рыба, но, посмотрев в подзорную трубу, он увидел, что это серебряный шар, такой легкий, что он не плыл, а скорее лежал на поверхности воды. Меня вызвали, и я увидел шар величиной с футбольный мяч, ярко сверкавший почти в полумиле от нашего судна. Я застопорил машины и послал бот со вторым помощником, который подобрал шар и доставил его на борт.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что шар этот сделан из какого-то очень гибкого стекла и наполнен столь легким газом, что, когда его подбрасывали в воздух, он плавал, как детский воздушный шарик. Он был почти прозрачен, и мы разглядели внутри него что-то вроде свертка бумаг. Сделан он был из такого упругого материала, что нам далеко не сразу удалось разбить его и добраться до бумаги. Молоток его не брал, и он разбился только когда главный механик положил его в машину. К сожалению, он разлетелся в искрящуюся пыль, так что нам не удалось найти ни кусочка, чтобы установить, из чего же он был сделан. Однако бумага осталась цела, и, прочитав ее, мы заключили, что она имеет большое значение, и решили вручить ее британскому консулу, как только достигнем Ла-Платы. Вот уже тридцать пять лет я плаваю на судах, но с такой загадочной историей я столкнулся впервые; то же говорят все, кто находится сейчас на борту. Предоставляю разбираться в этом людям поумней меня».

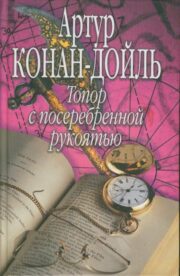

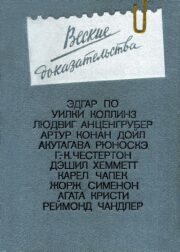
Прекрасное произведение Артура Конан Дойла.
Невероятно интересное чтение.
Незабываемые приключения и истории.
Захватывающая история о приключениях Шерлока Холмса.
Очень захватывающий роман.
Отличное погружение в атмосферу Викторианской Англии.
Увлекательное путешествие в мир Шерлока Холмса.