Почему же я шагал по пустынному берегу, разгоряченный и сердитый, как волк, у которого отняли его детеныша? Потому ли, что я полюбил эту русскую девушку? Нет, тысячу раз нет! Я не из тех, которые из-за белого личика и голубых глазок способны изменять весь ход своих мыслей и своего существования. Сердце мое было не затронуто. Но гордость — гордость была жестоко уязвлена. Подумать только, я оказался не способен защитить беспомощное существо, умолявшее меня спасти его, полагавшееся на меня! Вот что заставляло болезненно биться мое сердце и кровь приливать к голове.
В ту ночь с моря поднялся сильный ветер, и бурные волны бушевали на берегу, словно хотели увлечь его за собою в океан. Шум и грохот бури гармонировали с моим настроением.
Всю ночь я бродил по берегу, весь мокрый от брызг волн и дождя, глядя на сверкавшую пену прибоя и прислушиваясь к шуму бури. Горькое чувство кипело в груди моей при мысли о русском. Я присоединил свой слабый голос к громкому завыванию бури. «Если бы он возвратился! — кричал я, сжимая кулаки. — Если бы только он возвратился!»
И он возвратился. Когда серый свет утра забрезжил на востоке и осветил громадную пустыню желтых волн с быстро несущимися над ними темными тучами, я вновь увидел его. В ста ярдах от меня на песке лежал длинный темный предмет, выброшенный на берег яростью волн. Это была моя лодка, сильно поврежденная. Немного дальше в мелкой воде колыхалось что-то неопределенное, бесформенное, запутавшееся в голышах и водорослях. Я сразу увидел, что это был русский, лежавший ничком, мертвый. Я бросился в воду и вытащил его на берег. Только после того, как я перевернул его, я увидел, что она была под ним; его мертвые руки обнимали ее, его искалеченное тело все еще стояло между нею и яростью бури. Казалось, что свирепое море могло отнять у него жизнь, но при всем своем могуществе было не в силах оторвать этого человека от женщины, которую он любил. Некоторые признаки указывали, что в течение страшной ночи ветреный ум женщины познал, наконец, цену верного сердца и сильной руки, которые боролись за нее и охраняли ее так нежно. Чем иначе можно было объяснить, что ее маленькая головка с такой нежностью приютилась на его широкой груди, посколькуее золотые волосы переплелись с его развевающейся бородой. Откуда также была эта светлая улыбка беспредельного счастья и торжества, которую сама смерть не могла согнать с его смуглого лица? Думаю, смерть оказалась для него светлее, чем вся жизнь.
Мэдж и я похоронили их на берегу пустынного Северного моря. Они лежат в одной могиле, глубоко вырытой в желтом песке. Странные вещи будут происходить на свете вокруг них. Пусть возникают и падают целые государства, гибнут династии, начинаются и прекращаются войны — эти два существа, равнодушные ко всему на свете, будут вечно обнимать друг друга в своей уединенной могиле на берегу шумного океана. Ни крест, ни какой иной символ не отмечают их место успокоения, но старая Мэдж иногда кладет на могилу дикие цветы, разбросанные по песку, а когда я прохожу мимо во время своей ежедневной прогулки, я думаю о странной чете, которая пришла издалека и ненадолго нарушила скучное однообразие моей мрачной жизни.
1889 г.
ЦЕНТУРИОН
Данный документ является отрывком письма Сульпиция Бальба, легата Десятого легиона, его дяде Луцию Пизону на виллу возле Байи и датируется календами месяца Августа 824 года от основания Рима{16}.
Я обещал тебе, дорогой дядюшка, сообщать обо всем мало-мальски интересном, что случится при осаде Иерусалима; но люди, которых мы воображали себе напрочь лишенными ратного духа, доставили нам кучу хлопот, и на письма просто не было времени.
Мы пришли в Иудею, полагая, что обыкновенного звука труб и одного выстрела будет достаточно, чтобы выиграть войну; мы предвкушали грандиозный триумф на via sacra{17} и как все девушки Рима станут осыпать нас цветами и поцелуями. Что ж, может, мы и заполучим победу, и поцелуи, вероятно, тоже; однако, смею заверить, что даже тебе, прошедшему суровую службу на Рейне, не довелось попадать в более жестокую переделку. Сейчас город уже наш, сегодня горит их храм, и я кашляю из-за дыма, проникающего в мою палатку, где я и пишу это письмо. Да, осада была ужасна, и думаю, никто из нас не захочет вновь оказаться в Иудее.
Когда сражаешься с галлами или германцами, перед тобой просто храбрые люди, воодушевленные любовью к своей стране. Однако сила этого чувства не у всех одинакова, и войско не охвачено единым патриотическим порывом. Иудеи же, помимо беззаветной любви к родине, еще преисполнены безумного религиозного пыла, который в битве наделяет их невиданной яростью. Они бросаются с криком радости на наши мечи и копья, как будто смерть — это все, о чем они мечтают.
Если же один из них проскользнет мимо часовых, то храни нас Юпитер: их ножи смертоносны, и в рукопашной эти люди опасны, как дикие звери, которые выцарапают глаза или перегрызут горло. Ты знаешь, что наши молодцы из Десятого легиона еще со времен Цезаря были такими же стойкими солдатами, как и все остальные, кто носит Орла{18} на древке, но, клянусь, я видел, как они робели перед фанатиками. По сути, мы натерпелись меньше всех, поскольку должны были охранять перешеек полуострова, на котором и построен этот удивительный город. С других сторон его — крутые обрывы; таким образом, только через наш северный пост могут спастись беглецы или же подойти помощь. А тем временем Пятый, Пятнадцатый и Двенадцатый Сирийский легионы выполняли свой долг вместе с наемными войсками. Бедняги! Мы часто жалели их. Порой трудно было сказать, то ли мы атакуем город, то ли город нас. Они разбили камнями наши «черепахи», сожгли наши осадные башни и пронеслись прямо сквозь наш лагерь, чтобы уничтожить обоз. Если кто-нибудь заявит, будто еврей плохой солдат, не сомневайся, что он никогда не был в Иудее.
Однако все это не имеет ничего общего с тем, ради чего я, собственно, взялся за стило{19}. Наверняка, и на форуме{20}, и в термах судачат о том, как наше войско под непревзойденным командованием царственного Тита брало укрепление за укреплением, пока не достигло храма. Он представляет собою — вернее, представлял, так как он догорает, — очень сильную крепость. Римляне понятия не имеют, какой это величественный храм! Он намного красивее тех, что у нас в Риме, и дворец их царя, построенный — я забыл кем — то ли Иродом, то ли Агрип-пой, тоже лучше. Каждая стена храма по две сотни шагов, а камни так плотно пригнаны, что между ними не войдет и лезвие ножа; солдаты говорят, внутри столько золота, что им можно наполнить карманы целого войска. Эта мысль, как ты понимаешь, придала атаке известную ярость, но, боюсь, в пламени большая часть добычи погибнет.
У храма произошло большое сражение, и поговаривают, что он сегодня будет взят ночным приступом, поэтому я поднялся на площадку, откуда весь город виден как на ладони. Интересно, дядюшка, доводилось ли тебе в твоих многочисленных походах вдыхать запах огромного осажденного города. Ночью ветер дул с юга, и оттуда до наших ноздрей доносилось отвратительное зловоние смерти. В городе находилось полмиллиона человек, уже начались всевозможные болезни и голод; трупы разлагались, грязь и ужас, и все это в небольшом замкнутом пространстве. Ты знаешь, как пахнут загоны для львов за цирком Максима — чем-то кислым и тухлым. Смрад от города похож на это, но к нему примешивается резкий, всепроникающий запах смерти, от которого замирает само сердце. Именно такой запах исходил от города сегодня ночью.
Стоя в темноте и завернувшись в свой алый плащ, так как вечера здесь прохладные, я вдруг осознал, что не один. Неподалеку оказался высокий человек, разглядывающий, как и я, город. При лунном свете я видел, что он одет как офицер; подойдя ближе, я узнал в нем Лонгина, третьего трибуна моего легиона, солдата бывалого, немолодого. Он странный и молчаливый, его уважают все, но не понимает никто, потому что он весьма замкнут и больше думает, чем говорит. Когда я подошел, первые языки пламени вырвались из храма, высоко взметнувшийся огонь озарил наши лица и заблестел на оружии. В красном огненном свете я увидел, что исхудалое лицо старого воина застыло как маска.
—Наконец-то! — прошептал он. — Наконец! Он говорил сам с собой и вздрогнул, смутился,
когда я спросил, о чем это он.
Я давно думал, что этот город постигнет несчастье, — сказал он. — И теперь вижу, что так и случилось. Вот я и сказал: «Наконец!»
Да и все мы думали, что с городом, который вновь и вновь отказывается признать власть Цезарей, случится несчастье.
В его проницательном взоре появилось вопрошающее выражение, и он обратился ко мне с такими словами:
— Я слышал, ты из тех, кто стоит за терпимость в делах веры, и считаешь, что каждый человек должен выбирать себе богов в согласии со своей совестью.
Я объяснил, что принадлежу к стоикам школы Сенеки, по учению которого наш бренный мир мало что значит, и что не следует стремиться к его благам, а должно развивать в себе презрение ко всему, кроме высшего.
Он как-то мрачно усмехнулся моим словам.
Насколько я знаю, — сказал он, — Сенека умер самым богатым человеком в Империи Нерона, так что он получил от земной жизни все, несмотря на свою философию.
А сам-то ты во что веришь? — поинтересовался я. — Может, тебе ведомы тайны Озириса, или ты допущен в общество последователей Митры{21}?
Доводилось ли тебе слышать о христианах? — спросил он.
Да, — ответил я. — В Риме было несколько рабов и бродяг, которые так себя называли. Они почитали, насколько я понял, какого-то человека,умершего здесь, в Иудее. Полагаю, его казнили во времена Тиберия.
Верно, — подтвердил он. — А случилось это, когда прокуратором был Пилат — Понтий Пилат, брат старого Луция Пилата, правившего Египтом при Августе. Пилат оказался в большом затруднении, не зная, какое решение принять, но иудейская чернь и в те дни была точь-в-точь такой же дикой и варварской, как фанатики, с которыми мы бьемся. Пилат пытался отделаться от них, предложив им казнить преступника. Он надеялся, что, вкусив крови, они утихомирятся. Но иудеи предпочли предать казни другого человека, а Пилат оказался недостаточно тверд, чтобы им противостоять. Эх, как было жаль, просто ужасно!

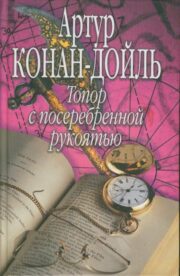



Прекрасное произведение Артура Конан Дойла.
Невероятно интересное чтение.
Незабываемые приключения и истории.
Захватывающая история о приключениях Шерлока Холмса.
Очень захватывающий роман.
Отличное погружение в атмосферу Викторианской Англии.
Увлекательное путешествие в мир Шерлока Холмса.