– Хотел я тебя дождаться, парень, – сказал он мне, – но теперь уж мне пора домой. Но визит мой не был напрасным, поскольку я имел удовольствие познакомиться с la belle cousine[3]. Очаровательная юная леди!
Он всегда разговаривал как-то по-казенному, да еще любил вставить слово-другое на французском, которого набрался, когда воевал на Пиренейском полуострове. Он бы и дальше говорил о кузине Эди, но я заметил уголок газеты, торчавший у него из кармана, и понял, что он приходил для того, чтобы, как всегда, поделиться новостями, потому что мы в Вест-инче были почти совсем оторваны от мира.
– Что новенького, майор? – спросил я.
Немного смутившись, он вытащил из кармана газету.
– Союзники одержали победу в важной битве, – сказал он. – Думаю, Наполеону после этого долго не продержаться. Саксонцы отбросили его далеко назад и под Лейпцигом задали ему хорошую трепку{31}. Веллингтон перешел Пиренеи, а грэмовцы{32} уже со дня на день будут в Байонне{33}.
Я сорвал с головы шапку.
– Так, значит, скоро войне конец! – вскричал я.
– Да, и пора уж, – вздохнул он. – Столько крови пролито! Но сейчас мне уж, видно, не имеет смысла рассказывать, какие у меня были насчет тебя мысли.
– Это какие же?
– Ну, парень, ты ведь здесь все равно без толку болтаешься. Сейчас, когда колено у меня начало заживать, я уж начал подумывать, не вернуться ли мне снова на службу. И, может, ты бы хотел немного послужить под моим началом?
Мое сердце взволнованно заколотилось.
– Вы еще спрашиваете!
– Да только мне еще придется с полгода подождать, чтоб комиссию пройти, а за это время с Бонапартом уж наверняка покончено будет.
– А тут еще мама, – добавил я. – Она меня точно не отпустит.
– А ты теперь можешь ее и не спрашивать, – бросил он и пошел дальше своей дорогой.
Я уселся на кочку между вересками и задумался, глядя в спину майору. Бывалый солдат в старенькой коричневой куртке, прихрамывая, поднимался по склону холма, на спине его покачивался переброшенный через плечо угол серого пледа. А что меня ждет здесь, в Вест-инче? Со временем я займу место отца, но что я увижу в своей жизни, кроме этих пустошей, этого ручья, этих овец и нашего старого серого дома? Но там, за этим синим морем… Да, вот там настоящая жизнь для мужчины. Даже майор, уже, можно сказать, старый человек, раненый и немощный, и тот собирается вернуться к работе. А я? Полный сил молодой парень, отсиживаюсь тут, на этих холмах! Горячая волна стыда захлестнула меня. Я вскочил, меня вдруг затрясло от желания куда-то бежать, что-то делать, сыграть свою достойную роль в развитии этого мира.
Два дня я думал только об этом, а на третий случилось нечто такое, что сначала наполнило меня решимостью наконец воплотить мысли в дело, а потом развеяло ее, словно облако дыма на ветру.
Днем мы с кузиной Эди и Робом отправились на прогулку и случайно забрели на большой холм, который одним выступом спускался к пляжу. Была поздняя осень, и дюны казались холодными, словно выцветшими, но солнце все еще светило ярко и южный ветер все еще приносил тепло и гонял по бескрайнему синему морю широкие пенистые волны. Я нарвал папоротника, чтобы сделать Эди подстилку. Она улеглась на это нехитрое ложе и закрыла глаза от удовольствия, потому что, похоже, ничто в жизни не доставляло ей столько удовольствия, как тепло и свет. Я сел рядом на пучок травы, а Роб положил мне голову на колени. Так мы и сидели посреди безмятежной природы, словно оторванные от всего мира, но даже тогда нам пришлось столкнуться с тенью этого великого человека, имя которого красными буквами было начертано на карте Европы.
Мимо проплывало судно. Это было старое почерневшее от времени торговое судно, которое, должно быть, держало курс на Лит{34}. Оно медленно шло по ветру, распустив паруса. Неожиданно с северо-восточной стороны показались два уродливых больших похожих на люггеры{35} одномачтовых судна, с квадратными коричневыми парусами. Казалось бы, что может быть прекраснее, чем, лежа на берегу, наблюдать, как мимо проплывают сразу три парусника, но вдруг на одном из люггеров блеснуло пламя и вверх взвилось облачко голубоватого дыма. Потом то же произошло со вторым люггером. В следующую секунду со стороны торгового судна донеслось: бах-бах-бах, и в мгновение ока рай сменился адом. На воде воцарились ненависть, жестокость, кровь.
Мы вскочили, и Эди положила дрожащую руку мне на плечо.
– Они сражаются, Джек! – воскликнула она. – Но почему? Кто они?
Сердце у меня в груди стучало громче пушечных выстрелов. Мне пришлось собраться с силами, чтобы ответить ей.
– Это французские каперы{36}, Эди, – срывающимся от волнения голосом произнес я. – «Шассе-маре»{37}, как они себя называют. А вон то – наше торговое судно, и они наверняка возьмут его. Люди говорят, что эти каперы всегда вооружаются тяжелыми пушками и на каждом корабле у них людей, как селедок в бочке. Что ж он, дурак, в Твид-то не заходит?
Но паруса торгового судна не опустились ни на дюйм, оно продолжало все так же степенно плыть вперед, пока маленькое черное ядро не угодило в один из реев{38} и задний парус, заструившись, не полетел вниз. Потом снова послышалось «бах-бах-бах» его маленьких пушек. Мощные каронады{39} люггеров громыхнули в ответ: «бум! бум!», и в следующий миг они настигли торговое судно. Словно благородный олень, в бока которого вцепились волки, продолжало оно медленно двигаться вперед. Сквозь окутавшее их облако густого дыма почти ничего нельзя было разглядеть, лишь сверху торчал конец мачты торгового судна с развевающимся флагом. Сквозь клубы дыма проблескивали частые вспышки, стоял дьявольский грохот пушек, были слышны даже крики, вопли и стоны. Эти звуки преследовали меня еще много недель. Целый час это адское облако медленно плыло по воде, и все это время мы, замерев от ужаса, продолжали высматривать флаг, больше всего боясь не увидеть его гордого трепетания. Потом неожиданно торговое судно, показавшееся еще более гордым и благородным, ушло вперед, а, когда дым начал рассеиваться, мы увидели, что один из люггеров накренился и, как утка с поломанным крылом, плавает на месте, медленно погружаясь под воду, а второй стоит рядом и спешно собирает к себе на борт его команду.
Весь этот час я жил тем боем. Ветер сорвал у меня с головы картуз, но я не заметил этого. Теперь же, переполненный чувствами, я обернулся к кузине Эди, и ее вид унес меня на шесть лет назад. Те же широко распахнутые глаза, те же приоткрытые губы, сейчас она ничем не отличалась от той, прежней девочки. Ее маленькие кулачки были сжаты так сильно, что кожа на суставах пальцев побелела, как слоновая кость.
– Ах, капитан! – мечтательно прошептала она. – Вот это настоящий мужчина, такой сильный, такой решительный.
– О да, он здорово с ними разделался! – горячо поддержал я.
Она удивленно посмотрела на меня, как будто только что заметила.
– Я бы отдала год жизни за то, чтобы познакомиться с таким мужчиной, – сказала она. – Но вот что значит жить в деревне. Тут тебя окружают только люди, не способные на что-то большое.
Не знаю, сказала ли она это нарочно, чтобы обидеть меня. Она всегда это отрицала, но слова ее тогда резанули меня, как ножом по сердцу.
– Что ж, хорошо, кузина Эди, – говоря это, я изо всех сил старался оставаться спокойным. – Тогда решено. Сегодня же вечером я пойду в Бервик и запишусь в армию.
– Джек! Ты – в армию?
– Да, чтобы ты не думала, что, если мужчина живет в деревне, значит, он трус.
– О, тебе так пойдет красный мундир, Джек. Знаешь, а ты намного лучше выглядишь, когда злишься. Как бы я хотела, чтобы у тебя в глазах всегда горел такой огонь, вот как сейчас. Ты сразу такой красивый, такой мужественный делаешься. Но ты же это в шутку говоришь, насчет армии.
– Увидишь, какая это шутка! – выкрикнул я и бросился прочь.
Без остановки я мчался через холмы, пока не добежал до дома и не ворвался в кухню, где мать с отцом сидели перед очагом.
– Мама! – крикнул я. – Я иду в солдаты!
Если бы я сказал, что иду грабить соседей, они бы и то не были так ошарашены, потому что в те времена среди крестьян служить в армии считалось делом недостойным и к добровольцам относились как к паршивым овцам. Но кто знает, что было бы с нашей страной, если бы не эти паршивые овцы! Мать схватилась руками за щеки, а отец нахмурился.
– Ты что, Джок, с ума сошел? – страшным голосом произнес он.
– Сошел, не сошел, но я уже решил.
– Тогда благословения от меня ты не получишь.
– Значит, обойдусь без него.
И тут мать не выдержала, вскрикнула и бросилась мне на шею. Больше всего мне запомнились ее ладони, сухие, крепкие, мозолистые ладони, огрубевшие от постоянной работы, которой ей приходилось заниматься, чтобы вырастить меня. Эти ладони произвели на меня большее впечатление, чем любые слова. Сердце мое затрепетало от жалости к ней, но решимости у меня не убавилось ни на йоту. Я поцеловал мать, усадил ее обратно на стул и бросился в свою комнату собирать вещи. На улице уже начинало темнеть, а путь мне предстоял неблизкий, поэтому я наспех собрал самое необходимое, свернул узелок и торопливым шагом направился к двери. Когда я выходил, кто-то тронул меня за плечо. Это была Эди.
– Глупый, – сказала она. – Ты же не собираешься на самом деле уходить?
– Да? Посмотрим.
– Но твой отец ведь против. И мать не хочет тебя отпускать.
– Я знаю.
– Тогда почему ты уходишь?
– Думаю, ты и сама это знаешь.
– Нет. Почему?
– Потому что тебе так хочется.
– Но я не хочу, чтобы ты уходил, Джек.
– Ты сама сказала. Ты сказала, что в деревне живут люди, недостойные чего-то большего. Я для тебя значу не больше, чем те голуби в хлеву. Я для тебя пустое место. Но я покажу тебе, чего я стою на самом деле.
Все, что скопилось у меня на душе, теперь вылетало вместе с этими короткими рублеными фразами. Эди вспыхнула и бросила на меня взгляд, насмешливый и в то же время нежный.


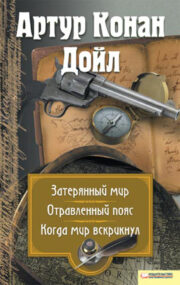



"Тень великого человека. Загадка Старка Манро (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тень великого человека. Загадка Старка Манро (сборник)", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тень великого человека. Загадка Старка Манро (сборник)" друзьям в соцсетях.