Я помню, как был поражен, когда первый раз наблюдал прижигание, которое проводили одному пациенту с больным позвоночником. Раскаленное добела железо крепко прижали к его спине без всякой анестезии. От вида этой операции и от тошнотворного запаха горелого мяса я едва не лишился чувств, меня чуть не вывернуло наизнанку. Но, к моему величайшему удивлению, на лице самого пациента не дрогнул ни один мускул. Когда потом я спросил у него об этом, он сказал, что процедура была совершенно безболезненной, и это подтвердил и хирург. «Нервные окончания подвергаются такому разрушению, – объяснил он мне, – что просто не успевают передать болезненные ощущения в мозг». Если это действительно так, как же быть со всеми теми мучениками, жертвами краснокожих и остальными бедолагами, о страданиях и стойкости которых мы наслышаны? Может быть, Божественное провидение не только не жестоко само по себе, но и не дает человеку быть жестоким? Попробуй сотворить какое-либо зверство, оно вмешается и скажет: «Нет, я не позволю, чтобы мое бедное дитя страдало», и тогда происходит омертвение нервов и летаргия, которая делает жертву недосягаемой для мучителя. Дэвид Ливингстон{152} в лапах льва должен был выглядеть как образцовый пример сил зла в действии, между тем сам он потом вспоминал, что испытывал скорее приятные ощущения, чем какую-то боль. Я совершенно уверен, что если бы новорожденный ребенок и только что умерший человек смогли сравнить свои ощущения, бóльшим страдальцем оказался бы первый. Не зря ведь ребенок, только что появившись на этот свет, первым делом открывает свой беззубый рот и изо всех сил выражает недовольство.
Каллингворт сочинил притчу для нашей замечательной новой еженедельной газеты.
«Как-то маленькие сырные клещи завели спор о том, – написал он, – кто сделал сыр. Некоторые из них сказали, что они слишком мало знают, чтобы найти ответ на этот вопрос. Некоторые заговорили о затвердевании пара или о центробежном притяжении атомов. Кое-кто предположил, что появление сыра каким-то образом связано с тарелкой, но даже умнейшие из них не смогли догадаться о существовании коровы».
Мы оба, Каллингворт и я, считаем, что бесконечное находится вне пределов нашего восприятия. Единственное различие в наших взглядах заключается в том, что в устройстве вселенной он видит зло, а я добро. Все-таки во всем этом заключена великая загадка! Главное для нас – быть честными и уважать друг друга. Над крышей дома напротив я вижу выстроившиеся цепочкой звезды. Они подмигивают мне… хитро подмигивают глупому маленькому человечку с пером в руке и листом бумаги на столе, который силится понять то, что понять ему не дано.
Ну что ж, теперь я, пожалуй, вернусь с небес на землю. Прошел уже почти месяц с тех пор, как я писал тебе в последний раз. Я хорошо запомнил дату предыдущего письма, потому что за день до того Каллингворт прострелил мне палец дротиком из духового ружья. Рана загноилась, поэтому я пару недель никому не мог писать, но сейчас уже все прошло. Мне столько всего хочется тебе рассказать, но, когда я начинаю все обдумывать, оказывается, что писать-то особо и не о чем.
Во-первых, о практике. Я уже говорил, что Каллингворт отвел мне кабинет прямо напротив своего, с тем чтобы отправлять больных, нуждающихся в хирургии, ко мне. Первые несколько дней я сидел без работы и слушал, как он кричит и ругается с пациентами или произносит речи с лестницы для ожидающих внизу. Внизу, рядом с дверью напротив таблички с его именем, повесили и мою: «Доктор Старк Манро, хирург». Знал бы ты, как возгордился я, когда впервые ее увидел! На четвертый день ко мне зашел первый пациент. Он даже не догадывался о том, что был первым пациентом, которого я принимал в своей жизни, имея собственный кабинет. Если бы он это знал, он бы, вероятно, не так радовался.
Этому бедолаге, правда, и так особо радоваться было нечему. Это был старый солдат, который остался почти без зубов, но все же умудрялся каким-то образом держать во рту короткую черную глиняную трубку. Не так давно у него на носу появился небольшой нарыв, который стал увеличиваться и покрылся коркой. Я его ощупал, это было плотное, как застывший клей, образование, в котором пациент чувствовал стреляющие боли. Диагноз сомнений не вызывал: эпителиоматозный рак{153}, причиной которого было раздражение, вызванное горячим табачным дымом. Я отослал его обратно в деревню, из которой он приехал, но через два дня сам съездил к нему на каллингвортовой двуколке и удалил опухоль. За работу я получил лишь соверен. Но это может быть хорошим началом для моей карьеры. Старик держался молодцом, он как раз недавно заезжал ко мне (теперь у него появились пышные закрученные аристократические усы, которые скрывают ноздри), чтобы сообщить, что купил целую коробку «церковных старост»[30]. Это была моя первая операция, и я, проводя ее, волновался больше, чем пациент, но результат придал мне уверенности в своих силах. Я твердо решил не отказываться ни от чего. Будь что будет, я готов работать. Зачем дожидаться чего-то лучшего? Я знаю, многие ждут своего шанса всю жизнь, но ведь, если двадцать лет просидеть без работы, и нервы крепче не станут, и знания утратят свежесть.
Работы у меня не много (люди ко мне приходят очень бедные и платят крохи), и все же я ею очень дорожу. За первую неделю я заработал, включая гонорар за ту операцию, один фунт семнадцать шиллингов и шесть пенсов. За вторую – ровно два фунта. За третью я разбогател на два фунта пять шиллингов, а эта неделя, как я только что подсчитал, принесла мне два фунта восемнадцать шиллингов, так что я иду в правильном направлении. Конечно же, эти цифры звучат смешно по сравнению с двадцатью фунтами в день, которые имеет Каллингворт, и моя практика кажется тихой маленькой заводью по сравнению с бушующим потоком, который протекает через его кабинет. И все же я вполне доволен и не сомневаюсь, что смогу заработать те триста фунтов в год, которые он мне обещал. Особое удовольствие мне доставляет мысль о том, что, если что-нибудь все-таки случится дома, я смогу оказать помощь родным. Если все и дальше пойдет так же хорошо, я крепко стану на ноги.
Кстати сказать, мне пришлось отказаться от предложения, о котором несколько месяцев назад я мог только мечтать. Ты, наверное, знаешь (может быть, я тебе об этом говорил), что, сдав выпускные экзамены, я сразу же подал заявки на место хирурга в несколько крупных пароходных компаний. Я и не надеялся получить от них ответ, поскольку обычно нужно ждать несколько лет, прежде чем очередь дойдет до тебя. Так вот, через неделю после того, как я приступил к работе здесь, я получил телеграмму из Ливерпуля: «Вы приняты на пароход „Деция“ хирургом. Будьте завтра не позже восьми вечера». Телеграмма была от «Стаунтон энд Меривейл», известной южноамериканской компании, а «Деция» – это прекрасное пассажирское судно водоизмещением в шесть тысяч тонн, курсирующее от Баии{154} и Буэнос-Айреса до Рио и Вальпараисо{155}. Четверть часа я провел в мучительных раздумьях. Не помню, чтобы когда-нибудь в своей жизни я так мучительно колебался с принятием решения. Каллингворт и слышать не хотел о том, чтобы я уезжал, и его мнение оказалось решающим.
«Друг мой, – говорил он, – ты поссоришься там со старпомом, и он тебя ганшпугом{156} уложит! Тебя привяжут к снастям за большие пальцы рук! Тебя будут поить гнилой водой и кормить заплесневелым печеньем! Я читал роман о службе в торговом флоте, так что знаю, как это бывает».
Когда я посмеялся над его представлением о современном мореплавании, он попробовал зайти с другой стороны.
«Если примешь их предложение, ты окажешься еще большим дураком, чем я думал, – сказал он. – Ну поразмысли сам, что это тебе даст? Все, что ты заработаешь, тебе придется потратить на синий китель. Тебе кажется, что ты попадешь в Вальпараисо, а на самом деле ты окажешься в приюте для нищих. Чем тебе здесь плохо? Тут уже все готово, бери да зарабатывай! Второй такой возможности у тебя не будет».
Мои сомнения окончились тем, что я позволил ему послать от моего имени телеграмму о том, что я не могу приехать. Странное чувство, когда ты доходишь до того места, где дорога твоей жизни раздваивается и тебе приходится делать выбор, куда свернуть, не видя перед собой указательного столба. Все же, мне кажется, я сделал правильный выбор. Судовой лекарь всегда будет всего лишь судовым лекарем, здесь же мои возможности ничем не ограничены.
Сам Каллингворт теперь ходит довольный собой, как никогда. Ты в последнем письме спрашивал, как ему удалось за такое короткое время привлечь к себе столько людей. Это как раз тот вопрос, ответ на который я нашел с большим трудом. Он рассказывал мне, что первый месяц здесь у него вообще не было ни одного пациента, и это его так огорчало, что он уже готов был бежать из этого города ночью, чтобы не платить за квартиру, которую тогда снимал. Но, наконец, к нему обратилось несколько человек… И он провел такое удивительное лечение… точнее сказать, настолько поразил их своим поведением, что после этого по городу о нем поползли слухи. В местных газетах появилось несколько восторженных статей о его методах лечения, хотя после того, что мне довелось видеть в Эйвонмуте, я не поручусь, что он сам же их не сочинил. Каллингворт как-то показал мне календарь, который разошелся здесь большим тиражом. Записи там были расположены в таком порядке:
15 августа: Принятие билля о второй реформе парламентского представительства, 1867.{157}
16 августа: Рождение Юлия Цезаря{158}.
17 августа: Выдающееся исцеление водянки доктором Каллингвортом в Брадфилде, 1881.
18 августа: Сражение при Гравлот – Сен-Прива, 1870.{159}
Подано сие так, словно это одно из самых выдающихся событий второй половины века. Я спросил у него, как его имя туда попало, но в ответ услышал лишь, что талия у той пациентки была пятьдесят шесть дюймов и что он прописал ей elaterium[31].
Это приводит меня к очередному вопросу. Ты интересуешься, действительно ли он такой уж выдающийся врач, и если да, то какой системой пользуется. Без колебаний могу сказать, что он действительно гениальный врач, я даже готов назвать его Наполеоном медицины. Он придерживается мнения, что в фармакопее дозировки почти всех лекарств занижены до такой степени, что они практически не оказывают никакого воздействия на болезнь.



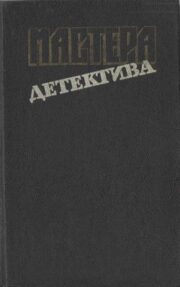

"Тень великого человека. Загадка Старка Манро (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тень великого человека. Загадка Старка Манро (сборник)", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тень великого человека. Загадка Старка Манро (сборник)" друзьям в соцсетях.