Увидел его и Джим. Я услышал крик и увидел, как он, словно в приступе бешенства, бросился вперед к французской колонне, и тут же вся бригада, офицеры и рядовые, устремились за ним и обрушились на Старую Гвардию, а наши товарищи поддержали нас огнем с флангов. Мы ждали приказа пойти в атаку, и все решили, что он поступил, но я готов голову дать на отсечение, что на самом деле в наступление бригаду повел Джим Хорскрофт.
То, что творилось следующие пять минут, иначе как сущим адом не назовешь. Я помню, как приставил свой мушкет к синему мундиру и выстрелил, а человек этот не упал – так плотно стояла толпа, но я увидел, как на нем образовалось темное пятно, из которого пошел дым, словно тело загорелось внутри. Потом меня понесло и бросило на двух огромных французов, но ни я, ни они не могли поднять оружие, потому что были слишком сильно прижаты друг к другу. Один из них, парень с очень длинным носом, сумел дотянуться до моего горла, и я почувствовал себя беспомощным цыпленком в его руках. «Rendez-vous, coquin; rendez-vous!»[22] – произнес он и вдруг с криком скрючился, потому что кто-то проткнул его штыком. После первого залпа почти не стреляли, воздух наполнился звуками ударов прикладами и штыками, воплями поверженных и отчаянными криками офицеров. А потом они начали отходить, медленно, нехотя, шаг за шагом, но все же они отходили! Эх, ради того мгновения, когда мы почувствовали, что берем верх, стоило пройти через это пекло. Передо мной был один француз, остролицый темноглазый парень, который стрелял, перезаряжал ружье, смотрел по сторонам, выискивая офицера, внимательно целился и снова стрелял, спокойно, словно на учениях. Помню, как я подумал, что неплохо было бы убить такого хладнокровного человека, поэтому бросился к нему и вонзил в него штык. После моего удара он повернулся и выстрелил мне прямо в лицо. Его пуля оставила у меня на щеке шрам, который я буду носить до конца своих дней. Когда он упал, я перешагнул через него, но тут на меня обрушились два огромных тела, и я почти задохнулся под ними. Когда я наконец выбрался из свалки и протер засыпанные порохом глаза, я увидел, что колонна почти разбита, она рассеялась на отдельные группки, которые либо бежали, спасая свои жизни, либо отбивались, прижавшись спинами друг к другу, но наша бригада все наседала и наседала. Мое лицо горело так, словно его поливали расплавленным железом, но ноги и руки у меня двигались, поэтому, ступая по горам убитых и раненых, я бросился догонять свой полк и снова включился в правое крыло.
Там я встретил старого майора Эллиота. Лошадь его застрелили, но сам он был невредим, поэтому, как всегда прихрамывая, с уверенным лицом шел вперед. Он увидел меня и кивнул, потому что времени на приветствия не было. Наша бригада все наступала, но передо мной проскакал генерал, и я заметил, что он смотрит назад, туда, где остались британские позиции.
– Общего наступления нет, – сказал он, – но я не пойду назад.
– Герцог Веллингтон одержал великую победу! – торжественно вскричал адъютант, а потом, поддавшись чувствам, добавил: – Если этот чертов осел додумается все-таки пойти вперед!
И все, кто его услышал, дружно рассмеялись.
Но теперь уже было видно, что французская армия дрогнула. Колонны и эскадроны, которые весь день так мужественно держали позиции, начали рассыпаться. Там, где раньше стояли плотные ряды стрелков, теперь началась суматоха. Гвардия под нашим натиском стремительно редела и отступала. Внезапно мы увидели прямо перед собой жерла двенадцати пушек, но мы не сбавили хода, и через миг я уже видел, как рядом с телом убитого уланом бойца наш младший офицер, совсем еще юный парень, как шаловливый школьник, куском мела выводил на их стволах большие цифры «71». Тут за нашими спинами раздался рев тысяч голосов, это вся британская армия пошла в наступление, обрушившись с холмов на остатки неприятеля. Впереди загремели пушки, наша легкая кавалерия, вернее, все то, что от нее осталось, присоединилась к нашим бригадам с правого фланга. После этого битва была закончена. Мы стояли на тех позициях, которые еще утром занимали французы, их пушки перешли в наши руки, их пехота разбежалась, и только бравая кавалерия все еще могла поддерживать хоть какой-то порядок в своих рядах, да и то лишь для того, чтобы с достойным лицом покинуть поле боя. Потом, когда уже начало смеркаться, наши обессилевшие и голодные воины наконец позволили пруссакам закончить дело, а сами расположились на отдых на завоеванной земле.
Вот и все, что я видел и могу рассказать о битве при Ватерлоо. Могу лишь добавить, что на ужин в тот день я съел двухфунтовую буханку ржаного хлеба, порцию солонины и выпил целый кувшин красного вина, после чего мне пришлось пробивать новую дырку на самом кончике ремня, и все равно он сидел на мне туго, как обруч на бочке. Затем я повалился на солому среди своих товарищей и через минуту уже спал мертвым сном.
Глава XIV Подсчет убитых
На заре, когда первые серые лучи света едва начали просачиваться сквозь длинные узкие щели в стенах нашего амбара, кто-то сильно потряс меня за плечо. Я тут же вскочил и схватился за алебарду, которая стояла рядом у стены, потому что спросонья мне почему-то померещилось, что на нас идут кирасиры. Но потом, увидев ряды лежащих вповалку спящих солдат, я понял, где нахожусь. Однако, увидев, кто меня разбудил, я удивился. Это был майор Эллиот. Вид у него был хмурый, и за его спиной стояли два сержанта с длинными листами бумаги и карандашами в руках.
– Просыпайся, парень, – сказал майор, своим обычным, привычным мне голосом, словно мы с ним снова вернулись в Корримьюр.
– Майор? – не зная, что и думать, неуверенно спросил я.
– Пойдешь за мной. Я ведь в ответе за вас двоих. Это же я увел вас из дому. Джим Хорскрофт пропал.
Это известие меня поразило, потому что вчера я так устал и так хотел есть, что после той атаки, когда Джим бросился на французскую Гвардию и вслед за ним поднялся весь полк, я о нем ни разу и не вспомнил.
– Я иду подсчитывать наши потери, – сказал майор, – и было бы неплохо, если бы ты помог мне.
И мы вчетвером, я, майор и двое сержантов, вышли из амбара. Это было ужасное зрелище! Даже сейчас, когда прошло уже столько лет, я не хочу его вспоминать и попытаюсь рассказать о нем как можно короче. В пылу битвы смотреть на все это было страшно, но сейчас, прохладным ранним утром, когда никто не кричал, не били барабаны и не трубили горны, ратный блеск померк. То, что я увидел, напоминало одну гигантскую мясную лавку. Тела несчастных были изрублены, разорваны на куски, раздавлены, как будто в насмешку над образом Божьим. По горам трупов можно было проследить, как развивалась вчерашняя кампания, шаг за шагом. На земле лежали каре мертвых пехотинцев в окружении атаковавших их кавалеристов. На вершинах холмов вокруг разбитых пушек расположились мертвые расчеты. Колонна Гвардии оставила посреди поля полосу, похожую на след гигантской улитки, и в начале этой линии, там, где произошла первая жестокая схватка, после которой французы отступили, лежала целая гора синих и красных мундиров.
И первое, что я увидел, подойдя к тому месту, был сам Джим. Он лежал на могучей спине, запрокинув голову, лицо его было спокойным; волнение и тревога оставили его, и он снова стал тем прежним Джимом, которого я тысячу раз видел в кровати в школьном общежитии, когда мы учились вместе. Увидев его, я не смог сдержать чувств и вскрикнул. Но, когда я подошел к нему, чтобы рассмотреть то счастливое выражение, которого, я знал, никогда не увидел бы на его лице, будь он жив, у меня не возникло желания скорбеть. Его грудь пробили два французских штыка, умер он мгновенно и без боли, о чем свидетельствовала улыбка, застывшая на его устах.
Когда мы с майором приподняли его голову, надеясь, что в нем еще теплились последние остатки жизни, я услышал рядом с собой хорошо знакомый голос. Обернувшись, я увидел де Лиссака, который лежал, опираясь на локоть, среди груды мертвых гвардейцев. Его шапка с огромным красным плюмажем валялась рядом с ним на земле. Он был очень бледен, под глазами набрякли синие мешки, но в остальном он был таким же, как раньше. Все тот же нос крючком, все те же топорщащиеся усы, и все те же коротко стриженные сильно редеющие к макушке волосы. Веки у него всегда были полуопущены, сейчас же они были почти совсем закрыты.
– Надо же, Джок! – воскликнул он. – Не думал тебя здесь встретить. Хотя мог бы и догадаться, когда увидел твоего друга Джима.
– Мы здесь из-за вас, – ответил я.
– Да ну, – в своей обычной торопливой манере сказал он. – Это было предопределено. Еще в Испании я начал верить в судьбу. Судьба привела вас сюда этим утром.
– Смерть этого человека на вашей совести, – мрачно произнес я, положив руку на плечо Джима.
– А моя – на его, так что мы квиты.
Он откинул в сторону край накидки, и я с ужасом увидел, что на боку его свисает огромный черный ком сгустившейся крови.
– Моя тринадцатая и последняя рана, – улыбнулся он. – Говорят, тринадцать – несчастливое число. У тебя во фляге осталось что-нибудь? – У майора было немного воды и бренди. Де Лиссак жадно выпил, и глаза его оживились, ввалившиеся щеки слегка порозовели. – Это Джим сделал! – сказал он. – Я услышал, как кто-то окликнул меня по имени, повернулся и увидел его. Он стоял, приставив к моему мундиру ружье. Двое моих солдат проткнули его саблями в ту же секунду, когда он выстрелил. Но… Эди того стоила! Не пройдет и месяца, как вы будете в Париже, Джок. Там ты с ней встретишься. Найдешь ее по адресу Рю-миромеснил, дом 11, это рядом с площадью Мадлен.
– Я запомню.
– А как поживает мадам? Твоя мать? Надеюсь, с ней все хорошо? А месье, твой отец? Передавай им от меня сердечный привет и наилучшие пожелания.
Даже сейчас, когда душа его прощалась с телом, он приложил руку к сердцу и слегка поклонился, говоря о моей матери.
– Ваша рана может быть не такой уж страшной, – сказал я. – Я могу привести нашего полкового лекаря!





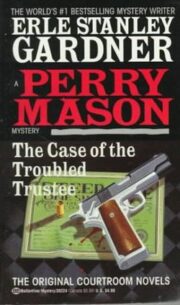
"Тень великого человека. Загадка Старка Манро (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тень великого человека. Загадка Старка Манро (сборник)", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тень великого человека. Загадка Старка Манро (сборник)" друзьям в соцсетях.