– Простите, – смущенно и прямо сказал он, – я говорил вам, оставьте все, как есть. Маркиз знает, что делает, и встреча ваша только умножит беды.
Леди Аутрэм, рядом с которой стояла высокая, еще прекрасная дама, гневно глянула на низкорослого пастыря.
– Это наше частное дело, – сказала она. – Не понимаю, при чем тут вы.
– А им только и подай частное дело! – презрительно молвил Джон Кокспер. – Они вечно шныряют под полом, норовят пролезть в чужое жилье. Видите, вцепился в бедного Марна! – Сэр Джон был не в духе, ибо знатные друзья взяли его с собой лишь на том условии, что он ничего не напишет. Ему и в голову не приходило, что именно он вечно норовит пролезть в чужое жилье.
– Вы не беспокойтесь, все в порядке, – поспешил заверить отец Браун. – Кроме меня, маркиз не видел ни одного священника. Поверьте, он знает, что делает. Молю вас, не трогайте его.
– Чтобы он умер заживо и сошел с ума? – вскричала леди Аутрэм. – Чтобы он жил вот так, потому что против воли убил человека двадцать пять лет назад? Это вы и зовете милосердием?
– Да, – невозмутимо отвечал священник, – это я зову милосердием.
– Чего от них ждать? – сердито сказал Кокспер. – Им только и надо замуровать кого-нибудь заживо, уморить голодом, свести с ума постом, покаянием и страхом вечных мук!
– Нет, правда, отец Браун, – сказал Аутрэм. – Неужели, по-вашему, он так виновен?
– Отец Браун, – серьезно сказал Мэллоу, – я всегда согласен с вами. Но сейчас я ничего не пойму! Неужели надо так расплачиваться за такое преступление?
– Преступление его тяжко, – отвечал священник.
– Да умягчит Господь ваше жестокое сердце, – сказала незнакомая дама. – Я пойду и поговорю с моим женихом.
И, словно голос ее вызвал духа, из серого замка вышел человек, остановившийся во мраке открытых дверей, на самом верху длинной лестницы. Человек был весь в черном; отсюда, снизу, было видно, что волосы его белы, а лицо бледно, как у статуи.
Когда Виола Грэйсон медленно пошла вверх по лестнице, лорд Аутрэм проговорил в темные усы:
– Надеюсь, ее он не оскорбит, как оскорбил мою жену.
Отец Браун, пребывавший в каком-то оцепенелом смирении, посмотрел на него и проговорил:
– Бедный Марн достаточно виновен, но этого он не делал. Вашу жену он не оскорблял.
– Что вы хотите сказать? – спросил Аутрэм.
– Он с нею незнаком, – отвечал священник.
Пока они говорили, высокая дама поднялась по ступеням, и тут все услышали поистине страшный крик:
– Морис!
– Что случилось? – воскликнула леди Аутрэм и побежала к подруге, которая пошатнулась так, словно сейчас слетит по каменным ступеням. Но Виола Грэйсон медленно пошла вниз, сжавшись и дрожа.
– О, Господи, – говорила она, – о, Господи милостивый… это не Джеймс… это Морис!
– Мне кажется, леди Аутрэм, – серьезно сказал священник, – вам лучше бы увести отсюда вашу подругу. Но с высоты ступеней обрушился голос, который мог бы прозвучать из склепа, – хриплый, несоразмерно громкий, как у тех, кто много лет прожил среди птиц на необитаемом острове. Морис, маркиз Марн, сказал:
– Постойте!
Все застыли на месте.
– Отец Браун, – продолжал маркиз, – прежде чем эти люди уйдут, расскажите им все, что я рассказал вам.
– Вы правы, – отвечал священник, – и это вам зачтется.
Маркиз скрылся в замке, а отец Браун обратился к собравшимся у замка людям.
– Да, – сказал он. – Несчастный Марн дал мне право поведать все, что он мне поведал, но лучше я последую ходу собственных моих догадок. Конечно, я понял сразу, что мрачные монахи – просто чушь, вычитанная из книг.
Иногда, достаточно редко, мы склоняем человека к монашеству, но никогда не склоняем его к затвору без правила и никогда не рядим мирянина в монашеские одежды. Однако я задумался о том, почему же он носит капюшон и закрывает лицо. И мне показалось, что тайна не в том, что он сделал, а в том, кто он.
Потом генерал очень живо описал мне поединок, и самым живым в этой картине была загадочная поза Ромейна, застывшего в стороне. Она потому и была загадочной, что он застыл в стороне. Почему этот человек не бросился к своему другу? И тут я услышал сущий пустяк – генерал упомянул о том, что Ромейн стоял именно так, ожидая грома после молнии. Тут я все понял. Ромейн ждал и тогда, у моря.
– Да поединок кончился! – вскричал лорд Аутрэм. – Чего же он ждал?
– Поединка, – ответил отец Браун.
– Говорю вам, я все видел! – еще взволнованней крикнул генерал.
– А я, – сказал священник, – говорю вам, что вы ничего не видели.
– Простите, вы в своем уме? – спросил генерал. – Почему вы решили, что я ослеп?
– Потому что вы хороший человек, – отвечал священник. – Господь пощадил вашу чистую душу и отвратил ваш взор от беззакония. Он поставил стену песка и тайны между вами и тем, что случилось на земле крови.
– Расскажите, что там случилось, – едва проговорила леди Аутрэм.
– Потерпите немного, – ответил ей священник. – Последите за ходом моих мыслей. Подумал я и о том, что Ромейн учил Мориса приемам своего ремесла. У меня есть друг-актер, и он показывал мне очень занятный прием – как падать замертво.
– Господи, помилуй! – воскликнул лорд Аутрэм.
– Аминь, – сказал отец Браун. – Да, Морис упал, как только Джеймс выстрелил, и лежал, поджидая. Поджидал и его преступный учитель, стоя в стороне.
– Ждем и мы, – сказал Кокспер. – Я, например, больше ждать не могу.
– Джеймс, оглушенный раскаянием, кинулся к упавшему, – продолжал священник. – Пистолет он бросил с отвращением, но Морис держал свой пистолет в руке. Когда старший брат склонился над младшим, тот приподнялся на левом локте и выстрелил. Стрелял он плохо, но на таком расстоянии промахнуться нельзя.
Все были бледны; все долго глядели на священника. Наконец сэр Джон спросил растерянно и тихо:
– Вы уверены во всем этом?
– Да, – отвечал Браун. – Мориса Мэйра, маркиза Марна, я предоставляю вашему милосердию. Сегодня вы объяснили мне, что это такое. Как хорошо для бедных грешников, что если вы и перегибаете, то в сторону милости! Как хорошо, что вы умеете прощать!
– Ну, знаете ли! – вскричал лорд Аутрэм. – Простить этого мерзкого труса? Нет уж, позвольте! Я сказал, что понимаю честный поединок, но такого предателя и убийцу…
– Линчевать бы его! – крикнул Кокспер. – Сжечь живьем. Если вечный огонь не сказки, я и слова не скажу, чтобы спасти его от ада.
– Я не дал бы ему куска хлеба, – проговорил Мэллоу.
– Человеческой милости есть предел, – сказала дрожащим голосом леди Аутрэм.
– Вот именно, – сказал отец Браун. – Этим она и отличается от милости Божьей. Простите, что я не слишком серьезно отнесся к вашим упрекам и наставлениям. Дело в том, что вы готовы простить грехи, которые для вас не греховны. Вы прощаете тех, кто, по-вашему, не совершает преступление, а нарушает условность. Вы терпимы к дуэли, разводу, роману. Вы прощаете, ибо вам нечего прощать.
– Неужели, – спросил Мэллоу, – вы хотите, чтобы я прощал таких мерзавцев?
– Нет, – отвечал священник. – Это мы должны прощать их.
Он резко встал и оглядел собравшихся.
– Мы должны дать им не кусок хлеба, а Святое Причастие, – продолжал он. – Мы должны сказать слово, которое спасет их от ада. Мы одни остаемся с ними, когда их покидает ваша, человеческая милость. Что ж, идите своей нетрудной дорогой, прощая приятные вам грехи и модные пороки, а мы уж, во мраке и тьме, будем утешать тех, кому нужно утешение; тех, кто совершил страшные дела, которых не простит мир и не оправдает совесть. Только священник может простить их. Оставьте же нас с теми, кто низок, как низок был Петр, когда еще не запел петух и не занялась заря.
– Занялась заря… – повторил Мэллоу. – Вы думаете, для него есть надежда?
– Да, – отвечал священник. – Разрешите задать вам неучтивый вопрос. Вы, знатные дамы и мужи чести, никогда не совершили бы того, что совершил несчастный Морис. Ну, хорошо, а если бы совершили, могли бы вы, через много лет, в богатстве и в безопасности, рассказать о себе такую правду?
Никто не ответил. Две женщины и трое мужчин медленно удалились, а священник молча вернулся в печальный замок Марнов.
Тайна Фламбо
– …Те убийства, в которых я играл роль убийцы… – сказал отец Браун, ставя бокал с вином на стол.
Красные тени преступлений вереницей пронеслись перед ним.
– Правда, – продолжал он, помолчав, – другие люди совершали преступление раньше и освобождали меня от физического участия. Я был, так сказать, на положении дублера. В любой момент я был готов сыграть роль преступника. По крайней мере, я вменил себе в обязанность знать эту роль назубок. Сейчас я вам поясню: когда я пытался представить себе то душевное состояние, в котором крадут или убивают, я всегда чувствовал, что я сам способен украсть или убить только в определенных психологических условиях именно таких, а не иных, и притом не всегда наиболее очевидных. Тогда мне, конечно, становилось ясно, кто преступник, и это не всегда был тот, на кого падало подозрение.
Например, легко было решить, что мятежный поэт убил старого судью, который терпеть не мог мятежников. Но мятежный поэт не станет убивать за это, вы поймете почему, если влезете в его шкуру. Вот я и влез, сознательно стал пессимистом, поборником анархии, одним из тех, для кого мятеж – не торжество справедливости, а разрушение. Я постарался избавиться от крох трезвого здравомыслия, которые мне посчастливилось унаследовать или собрать.
Я закрыл и завесил все окошки, через которые светит сверху добрый дневной свет. Я представил себе ум, куда проникает только багровый свет снизу, раскалывающий скалы и разверзающий пропасти в небе. Но самые дикие, жуткие видения не помогли мне понять, зачем тому, кто так видит, губить себя, вступать в конфликт с презренной полицией, убивая одного из тех, кого сам он считает старыми дураками. Он не станет это делать, хотя и призывает к насилию в своих стихах. Он потому и не станет, что пишет стихи и песни.





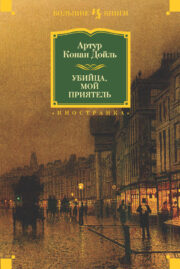
Невероятно проникновенное и захватывающее произведение!
Невероятно проникновенное произведение.
Увлекательное путешествие в прошлое.
Высокий уровень детализации и проникновения в душу героев.
Невероятно глубокое понимание человеческой психологии.
Очаровательные истории от Гилберта Кийта Честертона!
Прекрасное проникновение в мир приключений.
Захватывающее чтение о поисках истины.
Невероятно подробно и доступно описаны события.
Невероятно интересное путешествие в прошлое.
Великолепное произведение Честертона!
Великолепное произведение от Честертона!
Очень захватывающее чтение!
Настоящее произведение искусства.