Вы представляете себе, как мало было для меня интересно слушать про ссоры лорда со своею леди. Какое мне было дело, если она ненавидела звук его голоса, а он, чтобы досадить ей, обвинял ее во всяких низостях и говорил с ней так, как не стал бы говорить и со своими слугами. Хозяин все это мне рассказал да много еще и другого такого же, о чем я теперь уж не помню; не мое это было дело. А вот о чем я хотел услыхать, так это где и как лорд Маннеринг держит свои деньги. Акции да текущие счета — ведь это только одна бумага, с которой больше беды, чем пользы. Вот золото да камни драгоценные — из-за этих можно пойти на риск. И, словно отвечая на мои тайные мысли, хозяин начал рассказывать, что у Маннеринга есть целое собрание золотых медалей, самое дорогое на всем свете, и что если бы все эти медали в мешок положить, так самый сильный во всей округе человек не смог бы их поднять. Тут позвала его жена, и оба мы пошли спать.
Не в оправдание себе, сударь, скажу, а для того только, чтобы вы заметили, как жестоко для меня было искушение. Полагаю, что редкий бы на моем месте против него устоял. Лежал на кровати человек без всякой надежды, без работы и с одним последним шиллингом в кармане. Пытался он быть честным, но честные люди поворачивались к нему спиною. Упрекали его в воровстве и сами же толкали его на воровство. Сбит человек с ног потоком, несет его водою, и не выплыть ему оттуда.
А тут этакий случай: большущий дом; окон в нем сколько хочешь, — в любое полезай; золотые медали, которые так легко переплавить. Это все равно, что положить перед голодным булку и надеяться, что он ее не съест.
Наконец, я поднялся, сел на край постели и дал клятву, что сегодня же буду богатым и навсегда оставлю преступления, или сегодня же снова попаду в кандалы.
Потихоньку одевшись и положив шиллинг на стол, — хозяин был ласков, и его обманывать я не хотел, — вылез я через окно в сад при гостинице.
Вокруг сада был высокий забор, и пришлось еще через него перелезать, а дальше никакой помехи уже не было. По дороге я никого не встретил, и железные ворота парка оказались не запертыми. В доме было совсем тихо. Светил месяц, и белые стены были ясно видны в конце аллеи. С четверть версты я прошел, пока добрался до широкой, усыпанной песком площадки перед крыльцом. Тут я остановился в тени и смотрел на длинное здание; все его окна блестели под светом месяца, и ясно был виден высокий каменный фасад. Припав к земле, я высматривал, где бы легче было пробраться внутрь. Угловое окно казалось самым подходящим местом, так как вокруг него рос густой плющ. Под деревьями обошел я на заднюю сторону дома и стал прокрадываться в тени стены. Залаяла собака и зазвонила своей цепью; но я выждал, пока она успокоилась, и снова пополз вперед к намеченному окну.
Удивительно, как неосторожны бывают люди, жившие в деревнях, подальше от городов. Им, кажется, никогда и в голову не приходит, что их могут ограбить. Без всякого злого умысла возьмешься за дверную ручку, а дверь-то перед тобой и открывается. Так неосторожно жить, по-моему, — это значит ставить искушения на пути бедного человека. На этот раз не так уж оно было скверно; а все-таки вышло, что окно заперто на одну только задвижку, которую я легко отодвинул ножом. Приоткрыв раму, просунул нож и толкнул ставню. Ставни оказались створчатые и заперты не были. Распахнув их, я влез в комнату.
«Добрый вечер! Очень приятно вас видеть!» — сказал какой-то голос.
Бывали разные случаи в моей жизни, но такого никогда еще не было. Прямо перед распахнувшейся ставней всего шагах в двух от меня стояла женщина с зажженной восковой свечкой в руке. Высокого роста, тонкая, стройная, с красивым лицом, но такая бледная, что ее можно было принять за мраморную; только волосы и глаза были черны как ночь. На ней было длинное белое платье, не то халат какой-то; и с ее бледным лицом да в этом платье она стояла передо мною, словно привидение. Колена у меня подогнулись от страха, и я должен был схватиться за ставню, чтобы удержаться на ногах. Если бы у меня хватило силы, так я бы повернулся да и утек прочь, но я только и мог стоять да смотреть на нее.
Однако она меня скоро привела в чувство.
«Не бойтесь! — сказала она; и чудно это было, как хозяйка дома говорит такие слова разбойнику. — Я видела вас в окно из спальни, когда вы прятались вон там под деревьями, и потому сошла сюда вниз и услыхала, что вы здесь под окном. Если бы вы подождали, я бы вам отворила, но вы уже сами успели справиться».
В руке у меня еще был длинный складной ножик, которым я отпирал задвижку. Я был небрит и грязен после долгого скитанья по дорогам. Вообще вряд ли бы многим пришла охота встретиться со мною с глазу на глаз, хотя бы и средь бела дня. А эта женщина смотрела на меня так приветливо, точно я был ее любовник, пришедший на условное свидание. Взяв меня за рукав, она потянула меня в глубь комнаты.
«Что это значит, барыня? Вы со мной не больно шутите, — сказал я самым грубым голосом, — а мне его не занимать. — Если вы надо мной какую-нибудь шутку сыграть хотите, так вам первой худо будет», — добавил я, показывая нож.
«Шутить над вами я не стану. Напротив, я ваш друг и хочу вам помочь».
«Извините, барыня. Поверить вам для меня трудновато. С чего бы это вдруг вы захотели мне помогать?»
«У меня есть на то свои причины, — сказала она. И потом вдруг, засверкав своими черными глазами, — потому, — говорит, — что я его ненавижу, ненавижу! Да, ненавижу! Теперь понял?»
Вспомнилось мне, что в гостинице хозяин рассказывал, и я понял. Взглянул я в лицо их светлости и увидал, что поверить им можно. Хотелось барыне отплатить своему мужу; хотелось по самому больному месту ударить, — значит, по карману. Так хотелось ей отомстить, что не стыдно было ей даже настолько унизиться и со мной в компанию войти, лишь бы только свое желанье-то исполнить. Были и у меня неприятели, и я тоже кое-кого ненавидел, но, кажись, даже и не понимал, какова бывает настоящая ненависть, пока не увидал лицо этой барыни, освещенное восковой свечечкой.
«Теперь вы мне поверите?» — спросила она, снова ласково трогая меня за рукав.
«Точно так, ваша светлость!»
«Вы меня разве знаете?»
«Могу догадаться, кто вы есть».
«Да, о моей несчастной жизни уж, кажется, по всему графству идут разговоры. Только его одного это нисколько не заботит. На всем свете его заботит только одна вещь, и ее вы сегодня получите от него. Есть с вами мешок?»
«Нет, ваша светлость».
«Затворите ставни. Тогда никто не увидит света. Теперь вы в полной безопасности. Все слуги спят в другом флигеле. Я могу показать вам, где лежат самые драгоценные вещи. Всего вам не унести, а потому надо выбирать самое лучшее».
Комната, где я оказался, была длинная и низкая; по паркетному полу были разостланы ковры и шкуры. В разных местах стояли маленькие ящики, а по стенам висели копья, мечи и разные такие штуки, которые в музеях складывают. Были еще разные чудные одежды, привезенные из диких стран, и среди них леди нашла большой кожаный мешок.
«Спальный мешок годится, — сказала она. — Теперь идите за мною, и я покажу, где лежат медали».
Как подумаешь, так словно это все во сне было: высокая, бледная хозяйка ведет меня, ночного громилу, грабить ее собственный дом. Так бы, кажется, и прыснул со смеха от этакой диковины; только в лице у барыни было что-то такое, от чего у меня смех пропал.
Точно дух, скользила она передо мною, с зеленой восковой свечкой в руках; а я шел позади с мешком. Так мы дошли до конца комнаты. Дверь была заперта, но ключ был тут же, и она провела меня дальше. Следующая комната была небольшая и вся обвешана занавесками с картинами. Вспоминается мне, что там была нарисована охота на оленя и, как свечка-то мелькала, так оно выходило, словно и лошади и собаки скачут вокруг по стенам. Кроме того, был в этой комнате только целый ряд ореховых ящиков с медной отделкой. Крышки на них были стеклянные; и увидал я под стеклом те самые золотые медали; лежат они на красном бархате, рядами, блестят и переливаются. И некоторые из них такие большущие — с тарелку и толщиной чуть не вполдюйма. Пальцы-то у меня так и зачесались, и сейчас это я ножом под крышку.
«Погодите, — сказала она, задержав мою руку. — Вы можете достать кое-что лучшее».
«С меня и этого предовольно, сударыня. Дай бог вашей светлости за доброту за вашу»...
«Вы можете получить лучшее, — повторила она. — Разве золотые монеты стоят меньше, чем эти вещи?»
«Деньги-то, известно, лучше всего бы!»
«Так вот. Он спит как раз над нами. Нужно только подняться по лестнице. Там под его кроватью стоит ящик, и в нем столько золотых денег, что ими можно наполнить весь этот мешок».
«А как я их достану, не разбудив его?»
«Что же за беда, если он проснется! — Говоря это, она посмотрела на меня в упор. — Вы можете помешать ему крикнуть».
«Нет! Нет, сударыня, этого я не могу».
«Ну, как хотите. Судя по вашей наружности, я приняла вас за человека с твердой душой; теперь я вижу, что ошиблась. Если вы боитесь одного старика, то, конечно, вам не достать денег из-под его кровати. Вы, разумеется, лучше можете судить о своих делах, только мне кажется, что вам следовало бы выбрать для себя другое ремесло».
«Не хочу я брать убийства на свою душу».
«Вы могли бы справиться с ним, и не делая ему большого вреда. Я ни слова не говорила вам об убийстве. Деньги лежат под кроватью. Но если у вас слабое сердце, то лучше вам и не пытаться».
Так старалась она меня обработать, то соблазняя деньгами, то подсмеиваясь над моей трусостью. Наверное, я уступил бы и попытал счастья наверху; да только взглянул я ей в глаза и увидал, с какой злостью, с какой хитростью смотрит она мне в душу. И ясно мне стало, что нужен я ей для страшной мести и что не даст она мне другого исхода, как только или прикончить старика, или самому попасться. Вдруг и она почувствовала, что выдает себя. Мигом переменила она лицо и ласково мне улыбнулась. Но было слишком поздно: я уж видел, чего мне надо опасаться.




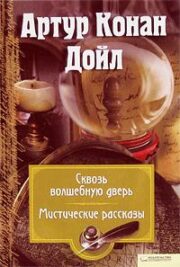
"Тайна Клумбера; Жрица тугов; Роковой выстрел; Хирург с Гастеровских болот; За гранью бытия; На грани бытия" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тайна Клумбера; Жрица тугов; Роковой выстрел; Хирург с Гастеровских болот; За гранью бытия; На грани бытия", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тайна Клумбера; Жрица тугов; Роковой выстрел; Хирург с Гастеровских болот; За гранью бытия; На грани бытия" друзьям в соцсетях.