Прошло немало времени, прежде чем мне стало хоть что-то известно об обстоятельствах жизни сэра Джона Болламора, так как экономка миссис Стивенс и управляющий имением мистер Ричардс из чувства лояльности по отношению к своему хозяину не болтали о его личных делах. Что касается гувернантки, то она знала не больше моего, и любопытство, которое разбирало нас обоих, способствовало в числе прочих причин нашему сближению. Однако в конце концов произошел случай, благодаря которому я ближе познакомился с мистером Ричардсом и узнал от него кое-что о прошлой жизни человека, на чьей службе я состоял.
А случилось вот что: Перси, младший из моих учеников, свалился в запруду прямо перед мельничным колесом, и, чтобы спасти его, я должен был, рискуя собственной жизнью, нырнуть следом. Насквозь промокший и в полном изнеможении (потому что я еще больше выбился из сил, чем спасенный мальчуган), я пробирался в свою комнату, как вдруг сэр Джон, услышавший возбужденные голоса, открыл дверь своего маленького кабинета и спросил меня, что случилось. Я рассказал ему о том, что произошло, заверив его, что теперь его мальчику не угрожает никакая опасность. Он выслушал меня с нахмуренным неподвижным лицом, и только напряженный взгляд да плотно сжатые губы выдавали все эмоции, которые он пытался скрыть.
— Подождите, не уходите! Зайдите сюда! Я хочу знать все подробности! проговорил он, поворачиваясь и открывая дверь.
Вот так я очутился в его маленьком рабочем кабинете, в этом уединенном убежище, порог которого, как я узнал впоследствии, в течение трех лет не переступала нога никакого другого человека, кроме служанки, приходившей сюда прибраться. Это была круглая комната (ибо располагалась она внутри круглой башни) с низким потолком, одним-единственным узким оконцем, увитым плющом, и самой простой обстановкой. Старый ковер, один стул, стол из сосновых досок да полочка с книгами — вот и все, что там было. На столе стояла фотография женщины, снятой во весь рост. Черты ее лица мне не запомнились, но я сохранил в памяти общее впечатление доброты и мягкости. Рядом с фотографией стояла большая черная лакированная шкатулка и лежали две связки писем или бумаг, перетянутые тесемкой.
Наша беседа была недолгой, так как сэр Джон Болламор заметил, что я до нитки вымок и должен немедленно переодеться. Однако после этого эпизода Ричардс, управляющий, поведал мне немало интересного. Сам он никогда не был в комнате, в которой я побывал по воле случая, и в тот же день он, сгорая от любопытства, подошел ко мне и завел разговор об этом, который мы продолжали, прогуливаясь взад и вперед по дорожке сада, в то время как мои подопечные играли поодаль в теннис на площадке.
— Вы даже не представляете, какое для вас было сделано исключение, сказал он. — Эта комната окружена такой тайной, а сэр Джон посещает ее так регулярно и с таким постоянством, что она вызывает у всех в доме почти суеверное чувство. Уверяю вас, если бы я пересказал вам все слухи, которые ходят о ней, все россказни слуг о тайных визитах в нее да о голосах, что оттуда доносятся, вы могли бы заподозрить, что сэр Джон взялся за старое.
— Взялся за старое? А что это значит? — спросил я.
Он удивленно посмотрел на меня.
— Невероятно! Неужели вы ничего не знаете о прошлой жизни сэра Джона Болламора?
— Ровным счетом ничего.
— Вы меня удивляете. Я думал, в Англии нет человека, который бы ничего не знал о его прошлом. Мне не следует распространяться об этом, но теперь вы тут свой человек, и лучше уж вы узнаете факты его биографии от меня, пока они не дошли до ваших ушей в более грубой и неприглядной форме. Подумать только, а я-то уверен был, что вы знаете, кто вас нанял на службу. Дьявол Болламор!
— Но почему Дьявол? — спросил я.
— А, вы ведь молоды, время же идет так быстро! Однако двадцать лет назад имя Дьявол Болламор гремело по всему Лондону. Он был предводителем компании самых отпетых беспутников, боксером, лошадником, игроком, кутилой, одним словом, прожигателем жизни в духе наших предков, да почище любого из них.
Я уставился на него в полном изумлении.
— Как?! — воскликнул я. — Этот тихий, погруженный в книги человек с грустным лицом?
— Величайший гуляка и распутник в Англии! Только между нами, Колмор. Но вы понимаете теперь, что женский голос у него в комнате и сейчас может навести на подозрения?
— Но что могло его так изменить?
— Любовь маленькой Берил Клер, рискнувшей выйти за него замуж. Это стало для него переломом. Он зашел в своем пристрастии к вину так далеко, что с ним перестала знаться его же собственная компания. Ведь одно дело кутила и совсем другое — пьяница. Все эти повесы пьянствуют, но не терпят в своей среде пьяниц. Он же стал рабом привычки, беспомощным и безнадежным. Вот тут-то в его жизнь и вошла она. Разглядев в этом пропащем человеке то хорошее, что в нем таилось, и поверив в его способность исправиться, она решилась пойти за него замуж, хотя это было рискованное решение, и посвятила всю жизнь тому, чтобы помочь ему вновь обрести мужество и достоинство. Вы, наверное, обратили внимание на то, что в доме нет никаких спиртных напитков? Так повелось с того дня, когда она впервые появилась здесь. Ведь для него даже сейчас выпить каплю спиртного — это все равно что тигру отведать крови.
— Значит, ее влияние удерживает его до сих пор?
— Вот это-то самое удивительное! Когда она умерла три года тому назад, все мы боялись, что он снова запьет. Она и сама боялась, что он может сорваться после ее смерти: ведь она была настоящим его ангелом-хранителем и посвятила этому жизнь. Между прочим, заметили вы у него в комнате черную лакированную шкатулку?
— Да.
— По-моему, он хранит в ней ее письма. Не было случая, чтобы он, уезжая, пусть даже на одни сутки, не взял свою черную лакированную шкатулку с собой. Вот так-то, Колмор, может быть, я рассказал вам больше того, чем следовало, но я рассчитываю на взаимность: поделитесь со мной, если узнаете что-нибудь интересное.
Я, конечно, понимал, что этот достойный человек сгорает от любопытства и чуть-чуть уязвлен тем, что я, новичок здесь, первым попал в святая святых, в недоступную комнату. Но сам этот факт поднял меня в его глазах, и с тех пор в наших отношениях появилось больше доверительности.
Отныне молчаливая и величественная фигура моего работодателя заинтересовала меня еще сильней. Мне стали понятны и удивительно человечное выражение его глаз, и глубокие морщины, избороздившие его изможденное лицо. Он был обречен вести нескончаемую борьбу, с утра до ночи держать на почтительном расстоянии страшного врага, который был всегда готов наброситься на него, врага, который погубил бы и душу его, и тело, если бы только смог снова вонзить в него свои когти. Глядя на суровую сутулую фигуру, идущую коридором или прогуливающуюся в саду, я ощущал эту нависшую над ним грозную опасность так явственно, как если бы она приняла телесную форму. Мне казалось, я почти вижу этого наипрезреннейшего и наиопаснейшего из врагов рода человеческого вот он припал к земле перед прыжком совсем близко, в тени этой фигуры, как наполовину укрощенный зверь, что крадется рядом со своим хозяином, готовый при малейшей его неосторожности вцепиться ему в горло. А умершая женщина, та женщина, которая до последнего своего вздоха отвращала от него эту опасность, тоже обрела облик в моем воображении: она представлялась моему мысленному взору смутным, но прекрасным видением. Ее ограждающе поднятые руки как бы отводили опасность от мужчины, которого она беззаветно любила.
Каким-то тонким, интуитивным образом он почувствовал мое сочувствие и на свой собственный молчаливый лад показал, что ценит его. Однажды он даже пригласил меня пойти вместе с ним на прогулку, и хотя за все время прогулки мы не перемолвились с ним ни единым словом, это было с его стороны знаком доверия, которое раньше он никому не оказывал. Кроме того, он попросил меня составить ему каталог его библиотеки (одной из лучших частных библиотек в Англии), и я проводил долгие вечерние часы в его присутствии, если не сказать в его обществе: он читал, сидя за стоим рабочим столом, а я, пристроившись в нише у окна, потихоньку наводил порядок в книжном хаосе. Несмотря на то, что между нами установились более близкие отношения, я ни разу больше не был удостоен приглашения в комнату в башне.
А затем мои чувства к нему резко изменились. Один-единственный случай все перевернул: моя симпатия к нему сменилась отвращением. Я понял, что он остался таким, каким всегда был, и приобрел еще один порок — лицемерие. Произошло же вот что.
Однажды вечером мисс Уизертон отправилась в соседнюю деревню, куда ее пригласили спеть на благотворительном концерте, а я, как обещал, зашел за ней, чтобы проводить ее обратно. Извилистая тропинка огибает восточную башню, и, когда мы проходили мимо, я заметил, что в круглой комнате горит свет. Был теплый летний вечер, и окно прямо над нашими головами было открыто. Занятые своей беседой, мы остановились на лужайке возле старой башни, как вдруг случилось нечто такое, что прервало нашу беседу и заставило нас забыть, о чем мы говорили.
Мы услышали голос — голос, безусловно, женский. Он звучал тихо — так тихо, что мы расслышали его только благодаря царившему вокруг безмолвию и неподвижности вечернего воздуха, но, пусть приглушенный, он, вне всякого сомнения, имел женский тембр. Женщина торопливо, судорожно глотая воздух, произнесла несколько фраз и смолкла. Говорила она жалобным, задыхающимся, умоляющим голосом. С минуту мы с мисс Уизертон стояли молча, глядя друг на друга. Затем быстро направились ко входу в дом.
— Голос доносился из окна, — сказал я.
— Не будем вести себя так, точно мы нарочно подслушивали, — ответила она. — Мы должны забыть про это.
В том, как она это сказала, не было удивления, что навело меня на новую мысль.



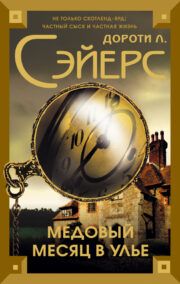
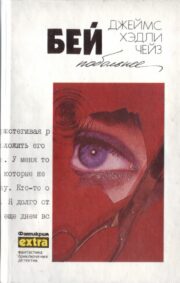

"Тайна Клумбера; Жрица тугов; Роковой выстрел; Хирург с Гастеровских болот; За гранью бытия; На грани бытия" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тайна Клумбера; Жрица тугов; Роковой выстрел; Хирург с Гастеровских болот; За гранью бытия; На грани бытия", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тайна Клумбера; Жрица тугов; Роковой выстрел; Хирург с Гастеровских болот; За гранью бытия; На грани бытия" друзьям в соцсетях.