— Разрешите полюбопытствовать, господин Никола, о чем это вы изволите мечтать?
Как сейчас, вижу его сидящим у окна; он вскакивает, сконфуженный:
— Простите, господин учитель!
Он был единственным, кого учитель называл не по фамилии: должно быть, имя Никола ему казалось смешным.
Что за дело мне было до этого! Нам с Никола было хорошо вдвоем, постепенно я отдалился от других компаний — впрочем, ни к одной из них я по-настоящему не принадлежал — и стал дружить только с ним. Мы оставались друзьями долго, до 1928 года, а между тем у меня ни разу не возникло потребности поделиться с ним своими сокровенными мыслями.
В общем, я выбрал себе удобного товарища, но в то же время выбор этот был своего рода протестом.
— Хорошо, мой друг, — говорил мой отец по телефону. — Нет, нет, ради бога, не беспокойтесь. Если вы будете так любезны и пришлете кого-нибудь завтра утром ко мне, бумага будет готова.
Для кого-то все было легко, а между тем в коридорах префектуры я встречал иногда старых крестьянок с корзинами, которые вцеплялись в каждого встречного:
— Простите, добрый господин, не скажете ли вы, куда мне обратиться насчет пенсии по старости?
Перед иными дверями стояли в очереди какие-то плохо выбритые мужчины, женщины с грудными детьми…
Я не сердился на отца, но и не гордился ни его положением, ни его могуществом. Скорее, готов был пожалеть его за то, что он вынужден быть любезным с некоторыми людьми, улыбаться им, называть их «мой друг» — эти два слова внушали мне отвращение, — приглашать к обеду.
Был в те годы в Ла-Рошели один пользовавшийся огромным влиянием человек по имени Порель. Он сыграл, правда косвенно, некоторую роль в трагедии 1928 года, поэтому мне кажется необходимым упомянуть о нем.
Порель не занимал никакого положения, у него не было ни определенной должности, ни профессии, и тем не менее префекту приходилось с ним считаться; я даже думаю, что отец в некоторых случаях пытался с ним договориться, но тщетно.
Сын рыбака, он сначала был капитаном дальнего плавания и служил у одного предпринимателя, перевозившего английский уголь. Что между ними произошло? В те времена я не очень интересовался подобными вещами, знаю только, что в результате Порель был уволен.
С тех пор этот сорокалетний человек целыми днями околачивался на набережной, на рыбном рынке, на молу Ла-Палисса и в кофейнях порта, чаще всего в ресторанчике «У Эмиля», где у него был свой столик в углу у окна.
Это был уже довольно расплывшийся, неряшливо одетый блондин; когда я впервые увидел его, я был поражен — после всех разговоров о нем у нас дома он показался мне простоватым, чуть ли не безобидным. Было в нем что-то общее с моим другом — те же светлые глаза, только, в отличие от него, Порель носил очки с толстыми, как лупа, стеклами.
Трудно определить, не впадая в преувеличения того или иного лагеря, какую, собственно, роль играл Порель в политической жизни города. С точки зрения блюстителей порядка, правительства, префектуры, судохозяев и, кстати, с точки зрения матери Никола, это был человек без стыда и совести, возмутитель спокойствия, любитель половить рыбку в мутной воде, чуть ли не с наслаждением провоцировавший в городе беспорядки. Но даже враги его признавали, что под внешним добродушием и простотой Пореля таится поистине дьявольский ум — его тонкое знание законов не раз ставило власти в затруднительное положение.
В глазах другого лагеря он был своего рода героем — человек образованный, он мог бы смотреть на них сверху вниз, а он радушно их встречал, всегда готовый выслушать, дать совет.
Его отец оставил ему пай в двух-трех рыболовецких судах, но на это нельзя было существовать. У него была жена и трое или четверо детей — в тот год, когда я окончил лицей, один из них как раз туда поступал, — жил он в районе Лалу в домишке, вокруг которого простирались пустыри. От кого получал он денежную помощь, если только вообще ее получал? Платил ли ему союз докеров, чьим едва ли не официальным руководителем он являлся?
В своих руках он держал не только докеров Ла-Палиса и угольного бассейна, но также экипажи больших рыболовецких судов и мог, как уверяли, начать забастовку и в сухом доке.
Я знаю, что незадолго до последних выборов отец несколько раз, вечером после ужина, тайком принимал его в своем кабинете. Шла ли речь о какой-то мирной сделке? Может быть, отцу как представителю правительства необходимо было нейтрализовать Пореля, и тот дал уговорить себя?
Обо всем этом, сын, я ничего не знал, как и ты нынче ничего не знаешь о моих служебных делах. Лишь значительно позднее пытаешься в этом разобраться и обнаруживаешь, что жил, не понимая, что вокруг происходит.
В моих воспоминаниях Порель остался личностью легендарной, символом, олицетворяющим бунт, и именно это привлекало меня к нему.
Постарайся меня понять. Я отнюдь не подходил к этому вопросу прямолинейно, как тебе может показаться. С одной стороны, был мой отец, представлявший собой «добровольно принятый порядок», но были и другие, такие, например, как управляющий канцелярией г-н Турнер, а позднее твой дядя Ваше, олицетворявший в моих глазах порядок «принудительный» или, если хочешь, порядок хитрецов и карьеристов.
Между ними и Порелем, олицетворявшим неподчинение этому порядку, существовал еще «добрый народ», роль которого весьма удачно исполняли Никола и его мать в их маленькой квартирке позади детского магазина — те, кто повинуется, не задаваясь никакими вопросами, просто потому, что их воспитали в повиновении.
Как это ни странно, но, хотя я жил в среде, непосредственно связанной с политикой, хотя у нас обедали депутаты, сенаторы, советники и постоянно обсуждались политические вопросы, у меня никогда не было четкого представления о разнице между правыми и левыми, я с трудом разбирался в партиях, всегда испытывал инстинктивное отвращение к чтению газет.
Я не был противником существующего строя. И вовсе не мечтал о каком-либо изменении режима, и все же мои симпатии были скорее на стороне управляемых, нежели управляющих, или, если несколько преувеличить, на стороне тех, кого давят, а не тех, кто давит.
С Никола мне было легко — нам никогда и в голову не приходило разговаривать на подобные темы. Кто знает, может, я потому и выбрал его себе в друзья, что с ним вообще не обязательно было разговаривать. Для него все было просто. Прежде всего сдать экзамены на бакалавра. Если это каким-то чудом удастся, — изучать медицину в Бордо, благо там жила его тетка, а потом устроиться под Ла-Рошелью, лучше всего в деревне, поскольку мать хочет кончить свои дни на лоне природы.
И людей он определял просто. Чаще всего говорил:
— Это парень что надо.
Он ни в ком не видел дурного. Я иногда думаю, что этот его оптимизм объясняется, вероятно, тем, что, когда его ребенком привезли в санаторий, он не надеялся выйти оттуда живым. Небо, считал он, вторично подарило ему жизнь (он был ревностным католиком и каждое утро перед лицеем успевал к мессе).
В наших разговорах мы не касались религии, как и политики. Ему просто казалось странным, что я не принимал первое причастие и в церкви бываю только на свадьбах и похоронах.
Мы одновременно надели длинные брюки — тогда их начинали носить позже, чем теперь; мы вместе закурили свою первую сигарету: он — тайком, потому что мать ему запрещала курить, я — открыто, потому что мой отец не видел в этом ничего дурного.
Вместе мы однажды зимним вечером вошли в некий дом в районе казарм, под крупно выведенным номером, и через час по уговору вновь встретились на улице.
И мне и ему было неловко, оба мы испытывали одинаковое разочарование, даже отвращение, но ни словом не обмолвились об этом, и второй раз он отправился в тот дом (я, кстати, тоже пошел туда и поэтому узнал, что он там был) уже один.
В прошлом году у тебя появился товарищ, который чем-то напомнил мне Никола, некий Фердинан, ты сказал нам, что его отец — колбасник, и это всполошило твою маму. Он был у тебя два-три раза. Вы, очевидно, вместе куда-то ходили, и потом, как это уже бывало не раз, ты больше о нем не вспоминал.
Имел ли мой отец основания тревожиться? Был ли для меня Никола тем, что называют дурной компанией?
Мой отец знал обо мне, о моих делах куда больше, чем я знаю о тебе, хотя я вовсе не собираюсь упрекать тебя в скрытности.
Заметь, он был для меня большим авторитетом, чем я для тебя, иногда я сочувствовал ему в том, что он вынужден кривить душой и соблюдать определенные условности, но не сердился на него. Напротив, я его жалел, поскольку не сомневался, что ему это так же тягостно, как было бы мне.
И еще я жалел его за то, что в редкие минуты, когда он бывал свободен от служебных дел, дома его встречали лишь остановившиеся глаза моей матери, жалел и восхищался его терпением.
Я был уверен, что с тех пор, как с матерью случилось это несчастье, между ними уже не было физической близости, это невозможно было себе представить, это было бы чудовищно; я едва ли не мечтал, чтобы отец — еще привлекательный мужчина — завел любовницу.
Была ли у него женщина? Если и была, то я не слышал об этом ни слова, между тем в нашем городе он и шагу не сделал бы незамеченным.
Раз в месяц он отправлялся в Париж, в министерство внутренних дел и другие учреждения и проводил там два-три дня.
Может быть, в Париже у него была постоянная связь, может, он довольствовался случайными встречами.
Разумеется, я никогда его об этом не спрашивал, хотя теперь уверен, что он откровенно, без всякого стеснения ответил бы мне, как ответил бы я тебе, если бы ты меня об этом спросил.
У нас с ним бывали короткие минуты душевной близости, как у нас с тобой, когда я по вечерам захожу в твою комнату, с той только разницей, что приходил к нему я.




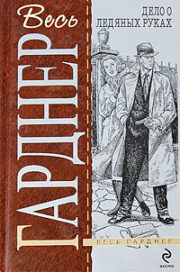
"Сын" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сын", автор: Жорж Сименон. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сын" друзьям в соцсетях.