— Этьен! — прошептала она, задыхаясь. — Этьен!
И тут, как всегда, мне на выручку пришла моя находчивость. Я поступил так, как должен поступать истинный джентльмен.
— Мари, — вскричал я, — простите, о, простите меня за внезапность вторжения! Мари, сегодня вечером я говорил с вашими родителями. И я не мог вернуться в лагерь, не узнав, согласны ли вы стать моей женой и сделать меня самым счастливым человеком на свете.
Ее изумление было так велико, что она долго не могла вымолвить ни слова. А затем стала восторженно изливать свои чувства.
— О Этьен! Мой замечательный Этьен! — восклицала она, обвив мою шею руками. — Такой любви не бывало никогда! Вы лучше всех мужчин на свете! Вот вы стоите предо мной, бледный, дрожа от страсти. Таким вы являлись мне в моих грезах. Как тяжело вы дышите, любовь моя, и какой великолепный прыжок бросил вас в мои объятья! За секунду до вашего появления я слышала топот вашего боевого коня.
Объяснять больше было нечего, и когда ты только что помолвлен, для губ находится другое занятие. Однако за дверью послышался какой-то шум — кто-то поднимался по лестнице. Когда я с грохотом появился в доме Равонов, старики бросились в погреб, чтобы посмотреть, не свалилась ли с козел большая бочка сидра, а теперь они спешили в комнату дочери. Я распахнул дверь и взял Мари за руку.
— Вы видите перед собой вашего сына! — сказал я.
О, какую радость я доставил этим скромным людям! При воспоминании об этом у меня всякий раз навертываются слезы. Им не показалось слишком странным, что я влетел в окно, ибо кому быть горячим поклонником их дочери, как не храброму гусару? И если дверь заперта, то разве нельзя проникнуть в дом через окно? Снова мы собрались все четверо в гостиной, из погреба была принесена облепленная паутиной бутылка, и полился рассказ о славном роде Равонов. Будто впервые видел я эту комнату с толстыми стропилами, два стариковских улыбающихся лица и ее, мою Мари, мою невесту, которую я завоевал таким странным образом.
Когда мы расставались, было уже поздно. Старик вышел со мной в переднюю.
— Вы пойдете парадным ходом или черным? — спросил он. — Черным ходом короче.
— Пожалуй, пойду парадным, — ответил я. — Этот путь, может, и длиннее, зато у меня будет больше времени думать о Мари.
Отстал от жизни
(Перевод Н. Высоцкой)
Моя первая встреча с доктором Джеймсом Винтером произошла при весьма драматических обстоятельствах. Случилось это в спальне старого загородного дома в два часа ночи. Пока доктор с помощью женщин заглушал фланелевой юбкой мои гневные вопли и купал меня в теплой ванне, я дважды лягнул его в белый жилет и сбил с носа очки в золотой оправе. Мне рассказывали, что оказавшийся при этом один из моих родителей тихонько заметил, что с легкими у меня, слава Богу, все в порядке. Не могу припомнить, как выглядел в ту пору доктор Винтер: меня тогда занимало другое, — но он описывает мою внешность отнюдь не лестно. Голова лохматая, тельце, как у общипанного гусенка, ноги кривые — вот что ему в ту ночь запомнилось.
С этой поры периодические вторжения в мою жизнь доктора Винтера разделяют ее на эпохи. Он делал мне прививки, вскрывал нарывы, ставил во время свинки компрессы. На горизонте моего безмятежного существования маячило единственное грозовое облако — доктор. Но пришло время, когда я заболел по-настоящему: долгие месяцы провел я в своей плетеной кроватке, и вот тогда я узнал, что суровое лицо доктора может быть приветливым, что скрипучие, сработанные деревенским сапожником башмаки его способны удивительно осторожно приближаться к постели и что, когда доктор разговаривает с больным ребенком, грубый голос его смягчается до шепота.
Но вот ребенок вырос и сам стал врачом, а доктор Винтер остался как был. Только побелели волосы да еще более опустились могучие плечи. Доктор очень высокий, но из-за своей сутулости кажется дюйма на два ниже. Широкая спина его столько раз склонялась над ложем больных, что и не может уже распрямиться. Сразу видно, что часто приходилось ему шагать в дождливые, ветреные дни по унылым деревенским дорогам — такое темное, обветренное у него лицо. Издали оно кажется гладким, но вблизи видны бесчисленные морщинки — словно на прошлогоднем яблоке. Их почти незаметно, когда доктор спокоен, но стоит ему засмеяться, как лицо его становится похожим на треснутое стекло, и тогда ясно, что лет старику еще больше, чем можно дать на вид.
А сколько ему на самом деле, я так и не смог узнать. Частенько пытался я это выяснить, добирался до Георга IV и даже до регентства, но до исходной точки так никогда и не дошел. Вероятно, ум доктора стал очень рано впитывать всевозможные впечатления, но рано и перестал воспринимать что-либо новое, поэтому волнуют доктора проблемы прямо-таки допотопные, а события наших дней его совсем не занимают. Толкуя о реформе избирательной системы, он сомневается в ее разумности и неодобрительно качает головой, а однажды, разгорячившись после рюмки вина, он гневно осуждал Роберта Пиля и отмену хлебных законов. Со смертью этого государственного деятеля история Англии для доктора Винтера закончилась, и все позднейшие события он расценивает как явления незначительные.
Но только став врачом, смог я убедиться, какой совершеннейший пережиток прошлого наш доктор. Медицину он изучал по теперь уже забытой и устаревшей системе, когда юношу отдавали в обучение к хирургу и анатомию штудировали, прибегая к раскопке могил. В своем деле он еще более консервативен, чем в политике. Пятьдесят лет жизни мало что ему дали и еще меньшего лишили. Во времена его юности широко обучали делать вакцинацию, но мне кажется, в душе он всегда предпочитал прививки.
Он бы охотно применял кровопускание, да только теперь никто этого не одобряет. Хлороформ доктор считает изобретением весьма опасным и, когда о нем упоминают, недоверчиво щелкает языком. Известно, что он нелестно отзывался даже о Леннеке и называл стетоскоп «новомодной французской игрушкой». Из уважения к своим пациентам доктор, правда, носит в шляпе стетоскоп, но он туг на ухо, и потому не имеет никакого значения, пользуется он инструментом или нет.
По долгу службы он регулярно читает медицинский еженедельник и имеет общее представление о научных достижениях, но продолжает считать их громоздкими и смехотворными экспериментами. Он едко иронизировал над теорией распространения болезней посредством микробов и любил шутя повторять у постели больного: «Закройте дверь, не то налетят микробы». По его мнению, теория Дарвина — самая удачная шутка нашей эпохи. «Детки в детской, а их предки в конюшне!» — кричал он и хохотал так, что на глазах выступали слезы.
Доктор настолько отстал от жизни, что иной раз, к немалому своему изумлению, он обнаруживает — поскольку в истории все повторяется, — что применяет новейшие методы лечения. Так, в дни его юности было очень модно лечить диетой, и тут он превосходит своими познаниями любого другого известного мне врача. Массаж ему тоже хорошо знаком, тогда как для нашего поколения он новинка. Доктор проходил курс наук, когда применяли еще очень несовершенные инструменты и учили больше доверять собственным пальцам. У него классическая рука хирурга с развитой мускулатурой и чувствительными пальцами — «На кончике каждого — глаз».
Вряд ли я забуду, как мы с доктором Паттерсоном оперировали сэра Джона Сирвелла. Мы не могли отыскать камень. Момент был ужасный. Карьера Паттерсона и моя висела на волоске. И тогда доктор Винтер, которого мы только из любезности пригласили присутствовать при операции, запустил в рану палец — нам с перепугу показалось, что длиной он никак не меньше десяти дюймов, — и в мгновение ока выудил его.
— Всегда хорошо иметь в кармашке жилета такой инструмент, — посмеиваясь, сказал он тогда, — но, по-моему, вы, молодые, это презираете.
Мы избрали его президентом местного отделения Ассоциации английских медиков, но после первого же заседания он сложил с себя полномочия.
— Иметь дело с молодежью — не для меня, — заявил он. — Никак не пойму, о чем они толкуют.
А между тем пациенты его благополучно выздоравливают. Прикосновение его целительно — это его магическое свойство невозможно ни объяснить, ни постигнуть, но тем не менее это очевидный факт. Одно лишь присутствие доктора наполняет больных надеждой и бодростью. Болезнь действует на него, как пыль на рачительную хозяйку: он сердится и жаждет взяться за дело.
— Ну, ну, так не пойдет! — восклицает он, впервые посещая больного. Он отгоняет смерть от постели, как случайно влетевшую в комнату курицу. Когда же незваный гость не желает удаляться, когда кровь течет все медленнее и глаза мутнеют, тогда присутствие доктора Винтера полезнее любых лекарств. Умирающие не выпускают руку доктора; его крупная энергичная фигура и жизнелюбие вселяют в них мужество перед роковой переменой. Многие страдальцы унесли в неведомое как последнее земное впечатление доброе обветренное лицо доктора.
Когда мы с Паттерсоном — оба молодые, полные энергии современные врачи — обосновались в этом районе, старый доктор встретил нас очень сердечно, он был счастлив избавиться от некоторых пациентов. Однако сами пациенты, следуя собственным пристрастиям — отвратительная манера! — игнорировали нас со всеми нашими новейшими инструментами и алкалоидами. И доктор продолжал лечить всю округу александрийским листом и каломелью. Мы оба любили старика, но между собой, однако, не могли удержаться, чтобы не посетовать на прискорбное отсутствие у пациентов здравого смысла.
— Бедняки-то уж понятно, — говорил Паттерсон. — Но люди образованные вправе ожидать от лечащего врача умения отличить шум в сердце при митральном пороке от хрипов в бронхах. Главное — способность врача разобраться в болезни, а не то, симпатичен он тебе или нет.




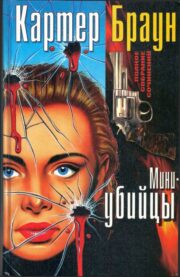
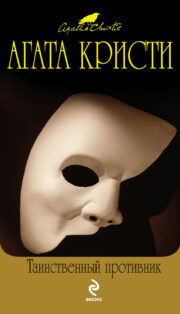
Эта книга Артура Конан Дойла представляет собой настоящее достояние искусства. Она полна интересных идей, прекрасных описаний и проникновенных мыслей. Я особенно поражена его поэтическими произведениями, которые позволяют мне почувствовать глубину и красоту его слов. Эта книга предоставляет мне возможность погрузиться в мир Артура Конан Дойла и почувствовать его исключительную мастерство. Я рекомендую эту книгу всем, кто ищет качественное литературное произведение.