Пробираясь через эту ужасную толпу, я насмотрелся такого, что никогда не изгладится из моей памяти. По ночам мне снова снится это море мертвенно-бледных лиц, с вытаращенными глазами, ртами, разинутыми в крике, которое плескалось подо мной. Это был настоящий кошмар. В пылу победы не чувствуешь всех ужасов войны. Только в леденящем душу ознобе поражения сознаешь их до конца. Помню старого гвардейца-гренадера, он лежал на обочине дороги, и его сломанная нога торчала в сторону. «Братцы, братцы, не наступайте мне на ногу!» — кричал он, но все равно его топтали и пинали. Передо мной ехал уланский офицер, голый до пояса. Ему только что отняли руку в лазарете. Повязка съехала. Это было ужасно. Двое артиллеристов пытались протащить свое орудие. Какой-то егерь вскинул ружье и выстрелил одному из них в голову. Я видел, как майор кирасирского полка вытащил из седельной кобуры два пистолета и сначала пристрелил свою лошадь, а потом пустил пулю себе в лоб. У самой дороги человек в синем мундире вопил и бесновался, как одержимый. Лицо у него почернело от порохового дыма, мундир разорвался, одного эполета не было, другой болтался на груди. Только подъехав к нему совсем близко, я узнал его — это был маршал Ней. Он буквально выл на бегущие войска, да, да, это был вой зверя. Вдруг он поднял обломок своей шпаги — она была сломана в трех дюймах от эфеса.
— Глядите, как умеет умирать маршал Франции! — воскликнул он.
Я с охотой последовал бы его примеру, но мой долг звал меня дальше. Вы знаете, что он не нашел тогда смерти, которой искал, но хладнокровно принял ее через несколько недель от своих врагов[31].
Есть старая пословица, что в наступлении француз смелее льва, а в отступлении — хуже зайца. И в тот день я понял, что это так. Но даже в этой сумятице я видел такое, о чем могу рассказать с гордостью. Через поля, в отдалении от дороги, двигались три резервных батальона Камброна, краса и гордость нашей армии. Они шагали медленно, выстроившись в каре, и знамена развевались над величественными медвежьими шапками. Вокруг них неистовствовала английская кавалерия, черные уланы герцога Брауншвейгского набегали волна за волной, с грохотом разбивались о них и откатывались. Когда я видел этих гвардейцев в последний раз, шесть английских пушек разом выпалили в них картечью, английская пехота окружила их с трех сторон и осыпала пулями; но, подобно тому, как отважный лев отбивается от свирепых собак, которые наседают на него с боков, остатки доблестной гвардии с честью выходили из последнего боя, медленно, шаг за шагом, то и дело останавливаясь, выравнивая и смыкая ряды. Неподалеку на склоне стояла гвардейская батарея двенадцатифунтовых пушек. Все артиллеристы были на местах, но пушки молчали.
— Почему вы не стреляете? — спросил я, проезжая мимо, у их полковника.
— Порох кончился.
— Тогда почему же не отступаете?
— Может быть, мы их хоть немного отпугнем своим видом. Надо дать императору время спастись.
Таковы были французские солдаты.
Под прикрытием этих храбрецов остальные перевели дух и двигались уже без прежней паники. Они разбрелись в стороны от дороги, и в сумерках я повсюду видел трусливую, беспорядочную, перепуганную толпу, которая десять часов назад была лучшей армией из всех, какие когда-либо вступали в бой. Я на своей резвой лошади вскоре выбрался из толпы и, миновав Женап, нагнал императора с остатками его штаба. Сульт все еще был при нем, и Друо, Лобо и Бертран тоже, вместе с пятью гвардейцами егерского полка, но лошади их едва плелись. Было уже почти темно, и когда император повернулся ко мне, лицо его смутно белело.
— Кто это? — спросил он.
— Полковник Жерар, — ответил Сульт.
— Вы нашли маршала Груши?
— Нет, ваше величество. Там были пруссаки.
— Это не имеет значения. Теперь ничто не имеет значения. Сульт, я вернусь назад.
Он попытался повернуть, но Бертран схватил его коня под уздцы.
— Ах, ваше величество, — сказал Сульт, — враг и без того торжествует.
И, окружив императора, они заставили его ехать дальше. Он ехал молча, склонив голову на грудь, — самый великий и скорбный из людей. А далеко позади все грохотали неумолимые пушки. Иногда в темноте слышались крики, стоны и быстрый глухой стук копыт. Но мы лишь пришпоривали коней и спешили вперед, обгоняя отступающие в беспорядке войска. Мы ехали всю ночь при свете луны и наконец оставили позади и преследователей и преследуемых. Когда мы миновали мост при въезде в Шарлеруа, уже занималась заря. Должно быть, в ее холодном и ясном свете мы казались толпой призраков — император с бледным, словно восковым, лицом, Сульт, весь черный от порохового дыма, Лобо в пятнах крови! Но теперь мы ехали спокойнее и перестали оглядываться назад, так как Ватерлоо осталось более чем в тридцати милях позади. В Шарлеруа мы взяли одну из карет императора и теперь, остановившись на другом берегу Самбры, спешились.
Вы спросите, почему я все это время ни словом не обмолвился о самом главном — о необходимости бдительно охранять императора. Клянусь, я пытался заговорить об этом и с Сультом и с Лобо, но они были так потрясены несчастьем и так заняты неотложными заботами, что невозможно было заставить их понять, какие важные сведения я привез. Кроме того, весь этот долгий путь вместе с нами по дороге двигалось много французских беглецов, и, как ни подавлены они были, мы все же могли не бояться нападения девяти человек. Теперь же, в это раннее утро, когда мы стояли вокруг кареты императора, я с тревогой увидел, что на длинной белой дороге, уходившей вдаль позади нас, нет ни одного французского солдата. Мы опередили армию. Я огляделся в поисках каких-нибудь средств защиты. Кони егерей пали, и нас сопровождал теперь только один из них, сержант с седыми бакенбардами. Оставались Сульт, Лобо и Бертран; но при всех их талантах, если дойдет до настоящей схватки, я предпочел бы одного-единственного гусарского квартирмейстера всем троим вместе. Кроме них, был еще сам император, кучер и камердинер, который присоединился к нам в Шарлеруа, итого восемь человек; но из этих восьми только двое, егерь и я, были настоящими бойцами, на которых можно было положиться в крайнюю минуту. Я похолодел, когда понял, как мы беспомощны. И тут, подняв глаза, я увидел, что в гору поднимаются девять прусских всадников.
Дорога в том месте шла через широкую холмистую равнину — часть ее желтела посевами, а часть была поймой Самбры и поросла густой травой. К югу от нас была цепь невысоких холмов, через которую переваливала дорога во Францию. По этой дороге и ехала кучка всадников. Граф Штейн неукоснительно выполнил приказ, он взял южнее, уверенный, что обгонит императора. Теперь он двигался нам навстречу — с этой стороны мы меньше всего могли ожидать нападения. Когда я их заметил, они были в полумиле от нас.
— Ваше величество! — воскликнул я. — Пруссаки!
Все вздрогнули и вытаращили на меня глаза. Молчание нарушил император.
— Кто говорит, что это пруссаки?
— Я, ваше величество, я, Этьен Жерар!
Когда кто-нибудь сообщал императору неприятную новость, он всегда гневался на этого человека. И он принялся ругать меня хриплым, надтреснутым голосом, с корсиканским акцентом, который у него появлялся, когда он выходил из себя.
— Вы всегда были шутом! — воскликнул он. — С чего это вам, болван вы этакий, взбрело на ум, что там пруссаки? Как могут пруссаки ехать из Франции? Если у вас и была голова, вы ее потеряли.
Его слова как плетью хлестали меня, но каждый из нас испытывал к императору те же чувства, что старая собака к своему хозяину. Она тут же все забывает и прощает ему побои. Я не стал спорить или оправдываться. Мне сразу бросились в глаза белые чулки на передних ногах головной лошади, и я отлично знал, что на ней сидит граф Штейн. Девять всадников придержали коней и принялись нас разглядывать. Потом они дали коням шпоры и с торжествующим криком помчались по дороге прямо к нам. Они знали, что добыча не ускользнет.
Когда они стремительно ринулись на нас, всякие сомнения исчезли.
— Ваше величество, клянусь богом, это действительно пруссаки! — воскликнул Сульт. Лобо и Бертран метались по дороге, как две перепуганные курицы, егерский сержант, изрыгая проклятия, обнажил саблю. Кучер и камердинер вопили и ломали руки. Наполеон стоял с каменным лицом, поставив одну ногу на подножку кареты. А я… ах, друзья мои, я был великолепен! Какими словами описать мое поведение в этот славный миг моей жизни? Я весь подобрался, призвал на помощь все свое хладнокровие, всю ясность ума и был готов действовать. Он назвал меня болваном и шутом. Как быстро и как благородно я отомстил ему! Когда он сам потерял голову, помог ему не кто иной, как Этьен Жерар.
Вступать в бой было бы нелепо, бежать — смешно. Император был такой грузный и к тому же валился с ног от усталости. Да и вообще он никогда не был хорошим кавалеристом. Разве ему уйти от этих людей, лучших наездников в целой армии? Ведь среди них самый знаменитый кавалерист Пруссии. Но я был самым знаменитым кавалеристом Франции, Только я и мог с ними тягаться. Если они примут меня за императора и погонятся за мной, есть еще надежда на счастливый исход. Все эти мысли молнией сверкнули у меня в голове. Еще мгновенье, и я перешел к быстрым и решительным действиям. Я бросился к императору, который, казалось, окаменел; от врагов его скрывала карета.
— Ваш сюртук, ваше величество! Вашу шляпу! — воскликнул я.
Я сорвал с него сюртук и шляпу. Никогда еще с ним не обращались так непочтительно. Мгновенно облачившись в них, я втолкнул его в карету. Потом вскочил на его знаменитого арабского скакуна и вылетел на дорогу.
Вы уже, конечно, поняли, что я задумал; но у вас может возникнуть вполне справедливый вопрос: как это я рассчитывал, что меня примут за императора? Ведь вы еще сейчас можете видеть, как я прекрасно сложен, он же никогда не был хорош собой, — полный, невысокого роста. Но когда человек сидит в седле, трудно определить его рост, что же касается всего прочего, то достаточно пригнуться, сгорбить спину и стараться быть похожим на мешок с мукой. На мне была треуголка и широкий сюртук с серебряной звездой, знакомый в Европе каждому ребенку. Подо мной был знаменитый белый конь императора. Этого было довольно.


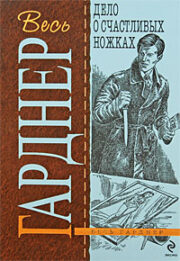
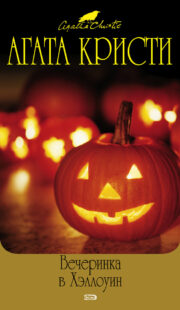

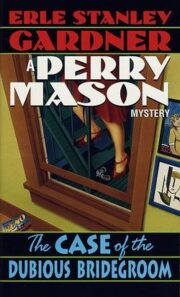
Эта книга Артура Конан Дойла представляет собой настоящее достояние искусства. Она полна интересных идей, прекрасных описаний и проникновенных мыслей. Я особенно поражена его поэтическими произведениями, которые позволяют мне почувствовать глубину и красоту его слов. Эта книга предоставляет мне возможность погрузиться в мир Артура Конан Дойла и почувствовать его исключительную мастерство. Я рекомендую эту книгу всем, кто ищет качественное литературное произведение.