Она вспомнила слова, сказанные ей Эдвардом на террасе в тот вечер, после гибели Джона, когда она ходила к бассейну и вполне намеренно, зажигая спички, набросала «Игдразиль» на металлическом столике — собранная, целеустремленная, неспособная просто сидеть и горевать о мертвом. «Я бы хотела испытать чувство скорби по отношению к Джону», — сказала она Эдварду тогда. Но тогда она не посмела позволить себе такую слабость, не рискнула дать горю завладеть ею.
Зато теперь она может скорбеть — времени в ее распоряжении сколько угодно.
— Джон — ах, Джон, — вырвалось у нее. Горечь и мрачное возмущение судьбой сломили ее. «Жаль, не я выпила этот чай».
Уже скоро Лондон. Она поставит машину в гараж и войдет в пустую студию. Пустую, ибо Джон никогда не зайдет туда и не будет больше с ней препираться, злясь на нее и любя — больше, чем ему бы хотелось, с жаром рассказывая о «болезни Риджуэя», о своих победах и отчаяниях, о миссис Крэбтри и больнице св. Христофора.
И вдруг, словно срывая темную завесу с ее сознания, явилась спасительная мысль: «Ну конечно. Туда я и поеду».
Лежа на узкой больничной койке, старуха Крэбтри впилась в посетительницу слезящимися, мигающими глазами. Она была точно такой, как ее описывал Джон, и Генриетта сразу же ощутила теплоту и подъем духа. Перед ней был не вымысел, а реальность — иначе и не могло быть! Вот тут, в этом закутке, она опять встречает Джона.
— Бедный доктор. Ужас, да и только, — говорила миссис Крэбтри. Помимо сожаления в ее голосе слышалась еще радость от того, что она-то жива, потому что миссис Крэбтри любила жизнь; и внезапные смерти (особенно убийство или смерть в колыбели) были для нее в числе самых изысканных узоров на ковре жизни. — Дать себя этак укокошить! У меня все внутри перевернулось, как я прочла. Я все читала про это в разных газетах. Сестра принесла мне все, какие смогла достать. Она очень любезная оказалась насчет этого. Там были фотографии и все такое. Плавательный бассейн и еще что-то. Да, «Жена покойного покидает суд после заседания жюри», и эта самая леди, владелица бассейна. Много чего. Настоящая тайна, ничего не скажешь.
Генриетту не оттолкнула даже эта нотка неприятного довольства. Ей она нравилась так же, как (она знала) понравилась бы Джону. Уж коли умирать, он предпочел бы ублажение жажды к жизни миссис Крэбтри пролитию слез и хлюпающим носам.
— Единственное, на что я надеюсь, так это что они его поймают — кто бы он ни был — и вздернут, — мстительно продолжала миссис Крэбтри. — Сейчас не вешают публично — а жаль. Я всегда думала, что с радостью пошла бы поглядеть. А уж если бы вешали убийцу доктора, так я бы побежала. Ну и гадина, наверное! А что, ведь такой доктор бывает один на тысячу. И какой всегда был вежливый! Как с ним было приятно! Хочешь или нет — все равно рассмешит. Такое иной раз отколет! Но и я кое-что сделала для доктора, это уж точно!
— Да, — сказала Генриетта, — он был очень умный человек, большой человек.
— А уж как вся больница его ценила! Все сестры. И больные! Бывало, так и чувствуешь, что идешь на поправку, едва он подойдет.
— Так вы должны были уже поправиться, — сказала Генриетта.
Проницательный взгляд старухи на миг затуманился.
— Я что-то не очень в этом уверена, милочка. Теперь меня лечит какой-то сладкоголосый парнишка в очках. Ну, это не доктор Кристоу, доложу я вам. Никогда не засмеется. Он один только был такой — любил шутку. И задавал же он мне встряску со своим лечением! «Не могу, — говорю, — больше не выдержу, доктор», а он мне говорит: «Нет, можете, миссис Крэбтри. Вы сильная, — говорит, — вы справитесь. Мы с вами делаем историю медицины, вы и я». Это он, вроде бы, добрым словом так помогал. Да я бы для него что угодно сделала! Он от тебя ждет многого, а ты чувствуешь, что подвести никак нельзя. Понимаете?
— Понимаю, — сказала Генриетта.
Маленькие острые глазки буравили ее.
— Извините, милочка, вы доктору не жена будете случайно?
— Нет, — сказала Генриетта. — Мы были друзьями.
— Ясное дело, — сказала миссис Крэбтри.
«Что же, интересно знать, ей ясно?» — подумала Генриетта.
— Извините, если я спрошу: а почему вы зашли?
— Джон мне много рассказывал о вас и о новых методах лечения. Мне захотелось узнать, как вы.
— Дохожу понемногу — вот как я!
— Но этого не должно быть, — воскликнула Генриетта. — Вы должны выздороветь.
Миссис Крэбтри усмехнулась:
— Я в ящик не собираюсь, не бойтесь.
— Значит, боритесь! Доктор Кристоу называл вас бойцом.
— Не знаю, сейчас назвал бы? — Миссис Крэбтри с минуту лежала тихо. — Кто бы он ни был, убийца этот, позор ему навек. И без того мало таких людей, как наш доктор. Нам уж больше таких не видать.
Миссис Крэбтри испытующе поглядывала на Генриетту, загрустившую от ее последних слов.
— Не унывайте, милочка, — сказала она. — А похороны-то ему хоть хорошие устроили?
— Да, очень красивые, — сказала Генриетта самым любезным тоном.
— Эх, жаль, меня не было на них! — вздохнула миссис Крэбтри. — Наверное, теперь уж только на свои попаду.
— Нет! — воскликнула Генриетта. — Даже думать так не смейте! Вы только что говорили, как вы с доктором Кристоу собирались делать историю медицины. Ну вот, теперь эта задача на вас. Вам теперь придется стараться вдвойне и делать историю самой, за него.
Миссис Крэбтри несколько мгновений смотрела на нее.
— Что-то уж больно пышно! Постараюсь, милочка. Больше ничего сказать не могу.
Генриетта встала и протянула ей руку.
— До свидания. Постараюсь заглянуть к вам опять.
— Давайте. Мне будет приятно поговорить про доктора еще, — в ее глазах мелькнула скабрезная искорка. — Подходящий был мужчина во всех отношениях.
— Да, — сказала Генриетта. — Был.
— Не мучьте себя, милочка. Что прошло, то прошло. Назад ничего не воротишь.
«Миссис Крэбтри и Эркюль Пуаро, — подумала Генриетта, — выразили одну и ту же мысль, только разными словами».
Она вернулась в Челси, завела машину в гараж и вошла в студию. «Ну вот, — подумала она, — пришло то, чего я так боялась. Пришел момент, когда я осталась одна. Больше не надо сдерживаться, моя скорбь теперь со мной».
Она повалилась в кресло и откинула волосы с лица.
Одинокая, покинутая, опустошенная.
Слезы наполнили ее глаза и медленно покатились по щекам.
«Ну вот, я и горюю, — подумала она. — Скорблю. Ох, Джон, Джон».
И вот вспоминается его голос, резкий от обиды: «Если я умру, первое, что ты сделаешь, еще обливаясь слезами, это начнешь лепить какую-нибудь чертову «Скорбящую» или там некий образ печали».
Она тревожно поежилась. Почему эта мысль пришла ей в голову?
Скорбь…
Скрытая покрывалом фигура с едва различимыми формами, на голове капюшон.
Гипс.
Она представила ее очертания — высокая, тонкая. Горе ее не выставлено напоказ, о нем говорят лишь длинные траурные линии драпировки.
Печаль, источаемая чистым, просвечивающим гипсом.
«Если я умру…»
Внезапная горечь затопила ее без остатка. «Вот я какая! — подумала она. — Джон был прав. Я не умею любить, не умею скорбеть — во всяком случае, всю себя без остатка отдавать этому. Это Мэдж и люди, подобные ей, составляют соль земли».
Мэдж и Эдвард в Айнсвике. Неподдельность, сила, теплота.
«А я, — подумала она, — не могу быть цельной. Я принадлежу не себе, а чему-то вне меня. Я не могу скорбеть о своих мертвых. Вместо этого я должна превращать свое горе в гипсовую фигуру».
Экспонат 58. «Скорбь». Гипс. Мисс Генриетта Савернек…
Она шепчет еле слышно: «Джон, прости меня за то, что я ничего не смогла сделать».
84 (4 Бл)




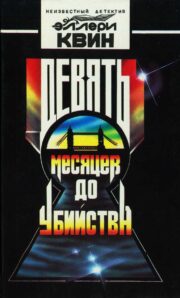

Захватывающая история!
Загадочное и захватывающее чтение!
Удивительное проникновение в мир детектива!
Ошеломляющее расследование!
Невероятное путешествие в мир преступления!
Захватывающие обстоятельства!
Захватывающие персонажи!
Захватывающий конец!