— Никто из них не способен причинить мне зла, — с уверенностью изрекла она. — А если попытаются, я тотчас же сообщу Имхотепу, и он найдет способ, как их наказать. Да они и сами это поймут, если как следует призадумаются. — Она рассмеялась. — Как глупо они себя вели, оскорбляя и обижая меня разными пустяками! Ведь они только играли мне на руку!
— Значит, ты все это затеяла намеренно? — спросила Ренисенб. — А я-то жалела тебя — мне казалось, что мы поступаем плохо. Больше мне тебя не жаль… По-моему, ты дурная женщина. Когда в Судный час тебе придется каяться в грехах перед сорока двумя богами — Владыками справедливости[40], ты не сможешь сказать: «Я не творила дурного», как не сможешь сказать: «Я не вожделела чужого богатства». И когда твое сердце положат на чашу весов, оно перетянет другую чашу — с перышком богини Маат[41], вниз.
— Ты что-то вдруг стала чересчур благочестивой, Ренисенб, — угрюмо отозвалась Нофрет. — А ведь я на тебя не жаловалась. Про тебя я ничего не писала. Спроси у Камени, он подтвердит.
И она, пройдя через двор, поднялась по ступенькам на галерею. Навстречу ей вышла Хенет, и они обе исчезли в недрах дома.
Ренисенб повернулась к Камени:
— Значит, это ты, Камени, помогал ей против нас?
— Ты очень сердишься на меня, Ренисенб? — с отчаянием в голосе спросил Камени. — Но что мне оставалось делать? Перед отъездом Имхотеп поручил мне по первому же требованию Нофрет написать ему все, что она прикажет. Скажи, что ты не сердишься, Ренисенб. Что я мог сделать?
— У меня нет права сердиться на тебя, — ответила Ренисенб. — Я понимаю, ты был обязан выполнить волю моего отца.
— Я не хотел писать, говорил, что мне это не по душе… И, между прочим, Ренисенб, клянусь, в письме не было ни слова против тебя.
— Мне это безразлично.
— А мне нет. Невзирая ни на какие приказы Нофрет, я бы никогда не написал ничего такого, что могло бы быть тебе во вред. Прошу тебя, Ренисенб, верь мне.
Ренисенб с сомнением покачала головой. Попытки Камени оправдаться звучали неубедительно. Она чувствовала себя оскорбленной и сердилась на Камени: ей казалось, что он в какой-то степени предал ее. Хотя что с него спросить? Ведь он ей чужой, хоть и родственник по крови, посторонний, приехавший к ее отцу из далеких краев. Он был всего лишь младшим писцом, получившим распоряжение от своего господина и безропотно выполнившим его.
— Я писал только правду, — настаивал Камени.
В письме не было ни слова лжи, клянусь тебе.
— Конечно, — согласилась Ренисенб, — лжи там и быть не могло. Нофрет слишком умна для этого.
Значит, старая Иза оказалась права. Эти мелкие гадости, которым так радовались Сатипи и Кайт, лишь сослужили службу Нофрет. Нечего удивляться, что с ее лица не сходила злорадная ухмылка.
— Она плохая, — сказала Ренисенб, отвечая своим мыслям. — Очень плохая.
— Да, — согласился и Камени, — она дурная женщина.
Ренисенб повернулась и с любопытством посмотрела на него.
— Ты знал ее и до приезда сюда, верно? Ты был знаком с ней там, в Мемфисе?
Камени смутился.
— Я знал ее совсем немного… Но слышал про нее. Говорили, что она гордая, заносчивая и безжалостная, из тех, кто не умеет прощать.
Ренисенб вдруг сердито вскинула голову.
— Я не верю тому, что написал отец, — заявила она. — Он не выполнит своих угроз. Сейчас он сердится, но по натуре он человек справедливый, и, когда вернется домой, он нас простит.
— Когда он вернется, — сказал Камени, — Нофрет постарается сделать так, чтобы он не изменил своего решения. Она умна и своего добьется, к тому же, не забудь, она очень красивая.
— Да, — согласилась Ренисенб, — она красивая. — И двинулась в сторону дома. Почему-то слова Камени о том, что Нофрет очень красивая, показались ей обидными…
Всю вторую половину дня Ренисенб провела с детьми. Пока она с ними играла, смутная боль, сжимавшая ее сердце, исчезла. Уже почти село солнце, когда она поднялась на ноги, пригладила волосы и расправила складки на мятой и перепачканной одежде. Интересно, почему это ни Сатипи, ни Кайт ни разу не вышли во двор?
Камени давно ушел. Ренисенб направилась к дому. В главном зале никого не было, и она прошла вглубь, на женскую половину. В своих покоях дремала Иза, а ее маленькая рабыня ставила метки на куски полотна. В кухне пекли треугольные караваи хлеба. Дом словно опустел.
Ренисенб вдруг стало одиноко. Куда все подевались?
Хори, наверное, поднялся к себе наверх. Может, и Яхмос с ним, или он пошел на поля? Себек и Ипи, скорее всего, при стаде или приглядывают за тем, как засыпают в закрома зерно. Но где Сатипи с Кайт, и где, да, где Нофрет?
В просторных покоях, которые облюбовала для себя Нофрет, терпко пахло ее притираниями. Ренисенб остановилась в дверном проеме и обвела взглядом деревянный подголовник кровати, шкатулку с украшениями, кучку браслетов из бусинок и кольцо с лазуритовым скарабеем[42]. Душистые притирания, масла, одежды, белье, сандалии — во всем чувствовался характер их владелицы, такой чужой в этом доме, такой враждебной.
«Где, интересно, сама Нофрет?» — подумала Ренисенб.
Она пошла к дверям, ведущим на задний двор, и столкнулась с Хенет.
— Куда все подевались, Хенет? В доме никого нет, кроме бабушки.
— Откуда мне знать, Ренисенб? Я занята работой, помогаю ткать, и вообще, у меня хлопот полон рот. Мне гулять некогда.
Это означает, решила Ренисенб, что кто-то отправился на прогулку. Может, Сатипи поднялась вслед за Яхмосом к гробнице, чтобы и там досаждать ему упреками? Но тогда где Кайт? На нее это непохоже — так надолго оставлять своих детей!
И снова, словно подводным течением, пронеслась мысль: «А где Нофрет?»
И Хенет, будто прочитав ее мысль, тотчас откликнулась:
— Что до Нофрет, то она уже давно пошла наверх, к Хори. — И Хенет язвительно рассмеялась. — Вот Хори ей ровня. Он тоже человек умный. — Она придвинулась к Ренисенб совсем близко. — Ты даже не представляешь себе, Ренисенб, как я переживаю из-за всей этой истории. В тот день — помнишь? — она явилась ко мне с отпечатком пощечины Кайт, и кровь текла у нее по лицу. Она позвала Камени, чтобы он писал, а меня заставила подтвердить, что я все видела собственными глазами. И разве я могла сказать, что ничего не видела? О, она очень умная. А я, вспоминая все это время твою дорогую мать…
Но Ренисенб, не дослушав ее, выбежала из дверей в золотой закат вечернего солнца. Скалы уже окутала густая тень — как прекрасен был мир в этот час!
Дойдя до тропинки, ведущей наверх, к гробнице, Ренисенб ускорила шаг. Она поднимется туда и разыщет Хори. Да, разыщет Хори. Так она всегда поступала в детстве, когда у нее ломались игрушки, когда она чего-либо не понимала или боялась. Хори был похож на эти скалы — несгибаемый, стойкий, спокойный.
«Все будет в порядке, как только я доберусь до Хори», — убеждала себя Ренисенб.
И снова ускорила шаг. Она почти бежала.
Потом вдруг увидела, что навстречу ей идет Сатипи. Сатипи, должно быть, тоже побывала наверху.
Как странно идет Сатипи: шатается из стороны в сторону, спотыкается, словно слепая…
Увидев Ренисенб, она замерла на месте, прижав руку к груди. Ренисенб подошла поближе и была поражена, увидев ее лицо.
— Что случилось, Сатипи? Тебе плохо?
— Нет-нет.
Голос у Сатипи был хриплым, глаза бегали.
— Ты что, заболела? Или испугалась? Что произошло?
— Что могло произойти? Ничего не произошло.
— Где ты была?
— Я ходила наверх, искала Яхмоса. Его там нет. Там никого нет.
Ренисенб смотрела на нее во все глаза. Перед ней была другая Сатипи, словно она разом лишилась твердости характера и решительности.
— Пойдем, Ренисенб. Пойдем домой.
Рука ее чуть приметно дрожала, когда она схватила Ренисенб за плечо, принуждая повернуть назад, и это прикосновение вызвало у Ренисенб внезапный протест.
— Нет, я поднимусь наверх.
— Говорю тебе, там никого нет.
— Я хочу посидеть и посмотреть на реку.
— Но уже поздно. Солнце почти зашло.
Пальцы Сатипи впились ей в плечо. Ренисенб попыталась вырваться.
— Пусти меня, Сатипи.
— Нет. Пойдем вместе назад.
Но Ренисенб уже удалось вырваться, и она бросилась вверх по тропинке.
Там что-то есть, инстинктивно чувствовала она, что-то есть… Она ускорила шаги…
И тут она увидела — в тени, у скалы, что-то лежит… Она подбежала.
И ничуть не удивилась тому, что увидела. Словно именно это и ожидала увидеть.
Нофрет лежала навзничь в неестественной позе. Ее открытые глаза были безжизненны.
Наклонившись, Ренисенб дотронулась до холодной, уже застывшей щеки. Потом выпрямилась, не отводя взгляда от Нофрет. Она не слышала, как сзади подошла Сатипи.
— Наверное, она упала, — сказала Сатипи. — Шла по тропинке наверх и сорвалась…
«Да, — подумала Ренисенб, — возможно, именно так и случилось. Нофрет сорвалась со скалы и, пока падала, несколько раз ударилась об известняковые глыбы».
— Возможно, увидела змею, — говорила Сатипи, — и испугалась. На тропинке часто можно встретить спящих на солнце змей.
Змеи. Да, змеи. Себек и змея. Змея, голова у нее разбита, она лежит на солнце. И Себек с горящими от ярости глазами…
Себек… Нофрет…
— Что случилось? — раздался голос Хори.


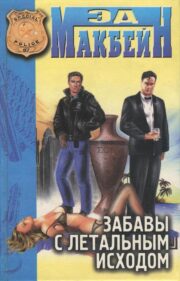

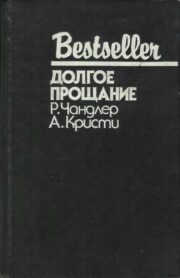

Непредсказуемые окончания!
Запоминающиеся персонажи!
Насыщенный детективный сюжет!
Захватывающие персонажи и загадочные преступления.
Увлекательное путешествие в мир детектива Агаты Кристи!
Отличное писательское мастерство!
Отличное сочетание детективной истории и приключений.
Открытие загадок до последней страницы!
Отличное произведение Агаты Кристи, которое не оставит вас равнодушными!
Незабываемое чтение!
Захватывающая история о поисках истины и правды.
Увлекательное чтение!
Прекрасное погружение в мир детективного жанра.
Захватывающие детали и описания!
Неожиданные повороты сюжета!
Захватывающая история!