Он был наделен и прекрасными качествами. В первую очередь, обладал исключительной памятью. Он был жадным читателем, читал все, что попадалось, и запоминал все прочитанное. И не поверхностно или в общих чертах, как запоминаем прочитанное мы, а со всеми подробностями. Если речь шла о поэзии, он мог ее цитировать постранично хоть на латинском, хоть на английском языке. Такая память имела свои неоспоримые преимущества, но имела и свои минусы. Когда твой мозг забит таким количеством произведений других, найдется ли там место для своих собственных? Прекрасная память, как я считаю, часто губительна для самобытности, несмотря на существующие примеры обратного (например, Вальтер Скотт). Грифельная доска, на которой вы собираетесь писать, должна быть чиста. Есть ли у Джонсона хоть одна оригинальная идея? Он когда-нибудь устремлял взгляд в будущее или проливал новый свет на те загадки, которые стоят перед человечеством? Перегруженный прошлым, он не имел на то возможности. Его разум не уловил первых сигналов, возвещающих о грядущих мировых преобразованиях. Он побывал во Франции за несколько лет до тех событий, которые можно назвать величайшим потрясением, когда-либо испытанных миром{151}. Там внимание его привлекло множество обычных повседневных вещей, но он так и не почувствовал запаха надвигающейся бури, который наверняка висел тогда в воздухе. Мы читаем о том, как некий дружелюбный месье Сантер{152} водил его по своей пивоварне и рассказывал, сколько его заводик производит пива в год. Это был тот самый сквернослов Санстерр, который бил в барабан, чтобы заглушить голос Людовика на эшафоте{153}. Этот пример показывает, насколько близко подступал он к краю бездны и каким близоруким сделала мудреца его ученость.
Из него вышел бы замечательный адвокат или священник. Кажется, ничто не могло закрыть ему дорогу в Кентерберийский собор{154} или к посту лорд-канцлера{155}. И в первом, и во втором случае его память, его ученость, его обостренная гордость и врожденное чувство долга и справедливости вознесли бы его на самую вершину. Разум его, хоть и имел определенные ограничения, работал отменно. И тому нет лучшего примера, чем его взгляды на вопросы шотландского закона, о которых сообщает нам Босуэлл и которые последний использовал перед шотландскими судьями. То, что человек со стороны, не имеющий специального образования, за столь короткое время смог создать такой огромный многогранный и острый труд, мне кажется, является лучшим примером tour de force[7], который можно отыскать в истории литературы.
Помимо всего прочего, он был еще и очень добрым человеком, и за это ему можно простить многие его недостатки. Он всегда был готов оказать помощь нуждающемуся, хотя сам никогда не имел полного кошелька. Комнаты его дома превратились в некую спасительную гавань, в которой не одно старое обветшалое судно встало на мертвый якорь. Среди них слепой мистер Леветт, язвительная миссис Вильямс, флегматичная миссис де Муле – все старые больные люди, в обществе которых он и проводил свои дни. Он всегда готов был поделиться гинеей с небогатым знакомым, и не было такого малоизвестного поэта, которого он считал не достойным того, чтобы посвятить ему свою очередную книгу, и посвящения эти были такими же несдержанными и громкими, как и сам их автор. Он был грубоватым добряком, который мог привести в дом какого-нибудь несчастного прохожего, встреченного на улице, и, когда думаешь об этом, возникает желание забыть о суровом докторе Джонсе из Литературного клуба или, по крайней мере, простить его за догматизм и педантизм.
Мне всегда было интересно знать, что выдающиеся люди думают о старости и смерти. Это – своего рода проверка того, насколько развитой и цельной была их жизненная философия. Юм увидел смерть издалека и встретил ее со скромным спокойствием. Разум Джонсона содрогнулся, узрев такого страшного оппонента. В последние годы его письма и разговоры превратились в сплошной крик ужаса. Но то была не трусость, поскольку он был одним из самых мужественных людей, которые когда-либо жили на этой планете. Храбрость его не знала границ. То была неуверенность в своих духовных силах, соединенная с верой в существование иного мира, которую более человечная и либеральная теология несколько смягчила. Как странно видеть, что он так отчаянно цеплялся за свое тело с его подагрой{156}, астмой, пляской святого Витта и шестью галлонами{157} водянки{158}. Чем может привлекать существование, каждый день которого состоит из восьми часов стонов в кресле и шестнадцати часов сопения в кровати? «Я бы отдал одну из ног за еще один год жизни», – говорил он. И все же, когда настал последний час, он встретил его с мужеством и простым достоинством. Вы можете говорить о нем что угодно, можете не любить его, но нельзя открыть эти четыре серых тома и не почувствовать умственный толчок, не ощутить желание узнать об этом человеке, о его душе и внутреннем мире больше. И поверьте, после этого вы станете лучше и мудрее.
IV
Рядом с джонсонианой стоят мои Гиббоны, два издания, как видите. Дело в том, что первое издание я посчитал настолько плохо изданным и неудобочитаемым, что не удержался и купил новый шеститомник «Истории», изданный Бери{159}. Когда читаешь эту книгу, ничто не должно отвлекать или раздражать. У вас перед глазами должен быть красивый четкий шрифт, светлая бумага, не громоздкая обложка. Эта книга не раскроется полностью тому, кто не обладает жаждой знаний, желанием вникнуть в самую суть истории. Приступая к чтению, запаситесь классическим атласом и записной книжкой, это позволит вам читать не торопясь, вдумчиво, когда нужно, возвращаясь к прочитанному, чтобы лучше понять причины и связь событий прошлого. Эта книга не захватит вас с головой. Вы не будете зачитываться ею до утра и не пропустите назначенную встречу днем, но вы почувствуете легкое успокаивающее удовольствие от ее чтения, и потом, дочитав ее до конца, поймете, что она дала вам нечто такое, что навсегда останется с вами, нечто существенное, нечто такое, что сделает ваш мир глубже и шире.
Если бы меня на год отправили на необитаемый остров и позволили взять с собой только одну книгу, мой выбор несомненно пал бы на нее. Вдумайтесь только, насколько огромна широта охватываемых ею тем, сколько пищи для размышлений заключено в этих томах. В них рассказывается о тысяче лет истории мира; написано все глубоко, хорошо и в точном соответствии с данными науки; позиция автора широко философична, стиль – безупречен. Для современного читателя он может показаться выспренним, но не стоит забывать, что Гиббон жил в те времена, когда тяжеловесная риторика Джонсона исковеркала нашу литературу. Я не могу сказать, что помпезность слога Гиббона мне неприятна. Текст должен быть серьезен и полнозвучен, когда описывается продвижение римского легиона или дебаты в греческом сенате. Это помогает вам почувствовать глубину, перенестись в прошлое и более живо представить значимость события. Перед вами – воюющие народы, столкновения цивилизаций, взлеты и падения династий, конфликты вероисповеданий. Вы безмятежно парите над ними, и, пока эта величественная панорама проплывает под вами, взвешенный и спокойный голос негромко объясняет вам истинное значение того, что вы видите.
Это самая величественная из всех историй, когда-либо написанных. Начинается она с описания положения дел в Римской империи, когда у власти были первые цезари{160} и когда она считалась хозяином мира. Перед вами проходит череда императоров, в которых странным образом соединялись величие и распутство, а иногда и преступное безумие. Разложение империи началось с ее вершины и длилось веками. Возникновение новой религии не оказало большого влияния на людей, представлявших верховную власть, поскольку, несмотря на принятие христианства, римская история по-прежнему писалась кровью. Новое вероисповедание стало лишь еще одной причиной для ссор и вражды между уже существующими религиями, и религиозные войны превзошли по жесткости любые межнациональные распри.
А потом подули мощные ветра извне, из далеких уголков мира, разрушительные ураганы, которые ворвались и вихрем пронеслись над старым порядком, оставив после себя разруху и хаос, но в итоге очистили старый, погрязший в пороках и разврате мир. Ураган этот, зародившийся где-то к северу от Китая{161}, неожиданно сделал то, что вполне может произойти еще раз. Человеческий вулкан взорвался, и по Европе прокатились разрушительные потоки лавы. Поразительнее всего то, что не завоеватели вторглись и в конечном итоге погубили Римскую империю, а охваченные страхом беженцы, которые, подобно испуганному стаду скота, шли вперед, не разбирая дороги и сметая все на своем пути. Это было безумное и драматическое время, время формирования тех наций, которые населяют Европу в наши дни. Народы, подобно песчаным бурям, шли с севера и востока и, встречаясь в этом сумасшедшем хаосе, перемешивались, закалялись и крепли. Легкомысленный галл{162} приобрел спокойную размеренность франка{163}, уравновешенный сакс получил определенную утонченность от норманна, в итальянца вдохнули новую жизнь лангобард{164} и остгот{165}, развращенный грек стал мужественнее и серьезнее благодаря магометанину. Повсюду незримая рука смешивала семена, что происходит и сегодня, с той лишь разницей, что место войн заняла эмиграция. К примеру, не надо обладать даром пророка, чтобы понять, какие мощные силы зреют по ту сторону Атлантики. Когда в англо-кельтский бульон добавляются итальянские, мадьярские и скандинавские специи, невозможно предугадать, каким будет на вкус этот суп из человеческих качеств.
Но вернемся к Гиббону. Следующий этап – перемещение центра империи из Рима в Византию{166}. Точно так же когда-нибудь центр англо-кельтской мощи может оказаться не в Лондоне, а где-нибудь в Чикаго или Торонто. Потом удивительная волна магометанства, которая пришла с юга, накрыла Северную Африку и распространилась направо и налево, от Индии с одной стороны до Испании с другой, пока наконец не подкатила прямо к стенам Византии, бывшей тогда оплотом христианства, и не стала тем, чем является сейчас, – европейской твердыней мусульманства.


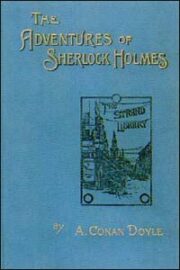

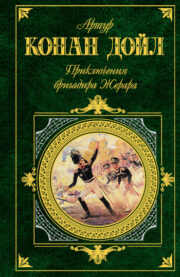
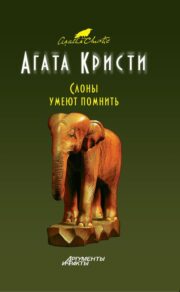
"Сквозь волшебную дверь. Мистические рассказы (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сквозь волшебную дверь. Мистические рассказы (сборник)", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сквозь волшебную дверь. Мистические рассказы (сборник)" друзьям в соцсетях.