Впрочем, если оставить позади причины написания этого труда, нужно признать, что работа была проделана основательная. В живом, разговорном, многословном стиле каноника есть что-то, напоминающее Геродота{360}, только точностью изложения фактов он превосходит грека. Если учесть, что жил он в то время, когда появились и были приняты с полным доверием путевые заметки Джона Мандевиля{361}, точность и аккуратность Фруассара заслуживают искренней похвалы. Возьмите, скажем, его описание Шотландии и шотландцев. Кто-то отдаст предпочтение Жану Лебелю{362}, но мы их не будем сравнивать. В четырнадцатом веке, человек, описывающий Шотландию, вполне мог позволить себе кое-что приукрасить, но мы видим, что по большому счету рассказ его вполне правдив. Гэллоуэйские{363} пони, оладьи из пресного теста, волынки – все так, как в жизни. Жан Лебель участвовал в приграничной войне с Шотландией{364}, и Фруассар получил свои сведения от него, но он пытался расширить их, и его правдивость дает нам повод довериться его рассказу даже в тех местах, которые мы не имеем возможности проверить в других источниках.
Но самое интересное в работе Фруассара – это та часть, в которой он рассказывает о современных ему рыцарях, их поступках, привычках и поведении. Да, к тому времени, когда старый каноник писал свои хроники, звезда рыцарства уже клонилась к закату, и все же он еще успел застать многих из тех, кто считался цветом рыцарского сословия. Эти люди читали его книгу (по крайней мере, те из них, кто умел читать), поэтому мы можем не сомневаться, что записанное в ней – не плод воображения, а точный и правдивый портрет воинов, живших в XIV веке. Записи в хронике Фруассара всегда последовательны. Если проанализировать приведенные слова и высказывания рыцарей (я этим занимался), бросается в глаза, что все они однотипны, из чего можно сделать вывод, что именно так разговаривали те люди, которые воевали у Креси{365} и Пуатье{366} в те времена, когда французский и шотландский короли находились в заключении в Лондоне{367}, а Англия, возможно, достигла величайшего военного величия в своей истории.
Одним эти рыцари отличаются от того образа, который создали наши романисты. Если почитать величайшего сочинителя рыцарских романов Вальтера Скотта, создается впечатление, что все средневековые рыцари – мускулистые силачи в расцвете сил: Бриан де Буагильбер, Реджинальд Фрон де Беф, Ричард, Айвенго, герцог Роберт и все остальные. Но у Фруассара многие из самых известных рыцарей – это старые слепые калеки. Чандосу{368}, лучшему кавалеристу своего времени, было за семьдесят, когда он погиб от удара в голову с той стороны, с которой еще раньше лишился глаза. Он был близок к этому возрасту, когда у Наваретты{369} выехал из строя английского войска и в поединке убил лучшего испанского воина молодого Мартена Феррару. Молодость и сила, конечно же, были важны, особенно там, где необходимо было носить тяжелые латы, но во время боя верхом сила благородного коня возмещала старческую дряхлость наездника. И сейчас во время охоты какой-нибудь немощный старичок, оказавшись в знакомом седле, может дать фору иному юному атлету. То же самое происходило и у рыцарей, и те из них, кому удавалось дожить до преклонного возраста, во время очередной битвы имели возможность проявить свой опыт, свое умение управляться с оружием и, самое главное, свое бесстрашие.
Нельзя отрицать, что, несмотря на глянец рыцарства, многие из этих воинов были жестокими и безжалостными варварами. На войне такой человек не знал пощады, кроме тех случаев, когда была надежда получить за врага выкуп. Впрочем, несмотря на свирепость, он был беззаботен, как ребенок, играющий в страшную игру, где льется кровь и люди умирают по-настоящему. К тому же он придерживался определенного кодекса чести и чувства его при встрече с равным по классу были искренними и благожелательными, даже когда они встречались на поле брани. Тогда противники не испытывали личной неприязни или даже ненависти, как это бывает сейчас, когда, скажем, француз воюет с немцем. В разговоре противники, наоборот, были вежливы и любезны друг с другом. «Могу ли я освободить вас от какой-либо клятвы?» или «Не хотели бы вы узнать, кто из нас лучше владеет оружием?» Они могли прервать бой для отдыха, и в это время спокойно беседовать, обмениваясь комплиментами в адрес доблести друг друга. Когда шотландец Ситон устал отбиваться от группы французских рыцарей, он сказал: «Благодарю вас, господа. Благодарю!» – и ускакал прочь. Один английский рыцарь – «ради собственных успехов и во славу своей дамы» – поклялся, что поскачет к славному городу Парижу и коснется его оборонительной стены копьем изнутри. Эта история очень характерна для тех времен. Когда он галопом подъехал к стенам Парижа, стоящие там французские рыцари увидели, что англичанин связан клятвой и не тронули его, даже сказали, что восхищаются подобным мужеством. Однако когда рыцарь тот поскакал обратно, на дороге ему встретился невежественный мясник с топором на длинном древке, который этим простым орудием сбил рыцаря с лошади и прикончил. Что было дальше, хроникер не описывает, но я уверен, что мясник тот горько пожалел о своем поступке, потому что французские рыцари не стали бы сложа руки смотреть, как представитель их ордена, пусть даже из вражеского лагеря, погибает от руки плебея.
Филипп де Комин как хроникер нам ближе и потому более понятен, чем Фруассар. Но сочинитель исторических романов найдет в этой каменоломне немало камней для постройки собственного маленького здания. Наверняка, «Квентин Дорвард»{370} сошел со страниц де Комина. История Людовика XI и его отношения с Карлом Смелым, странная жизнь в Плесси-ле-Тур{371}, льстивые придворные, брадобрей, палач, астрологи, перемежение безумной жестокости и рабских предрассудков – все это здесь есть. Можно было бы подумать, что такой монарх уникален, что подобное сочетание странных качеств и чудовищных преступлений просто не может повториться, но сходные причины порождают сходные результаты. Почитайте «Жизнь Ивана Грозного» Валевского{372}, и вы узнаете, что веком позже в России правил монарх, который был еще более беспощаден, но жизнь его проходила точно так же, вплоть до мелочей. Такая же дьявольская жестокость, такое же суеверие, такие же астрологи, такие же советчики-простолюдины, такая же резиденция, расположенная вдали от больших городов, – схожесть удивительная. Если вам показалось мало жестокости грозного Ивана, почитайте жизнеописание великого Петра того же автора. Что это за страна! Какая череда монархов! Кровь, снег и сталь! И Иван, и Петр убили своих сыновей. И все это замешано на религии, отчего становится еще страшнее. Попади наш Генрих VIII{373} в Россию, там его посчитали бы мудрым и добрым правителем.
Раз уж речь зашла о романах и рыцарях, взгляните вон на ту книгу в потрепанной обложке. Это «Хроника покорения Гранады»{374} Вашингтона Ирвинга{375}. Мне не известно, откуда черпал он материал (думаю, из испанских хроник), но войны между маврами и воинами-христианами были одним из самых ярких примеров рыцарства. Я не могу назвать другую книгу, которая передавала бы красоту и романтизм той эпохи лучше. Шлемы конных воинов с копьями сверкают над темными шеренгами. Красные костры полыхают на скалах, грозное спокойствие закованных в броню христиан, благодушная снисходительность и бесстрашие пестро разодетых мусульман. Если бы Вашингтон Ирвинг не написал ничего другого, эта книга и так стала бы непременным атрибутом любой библиотеки. Я люблю все его книги, потому что никто не писал более чистым и свежим языком, чем он, но все же «Хронику покорения Гранады» я перечитываю чаще всего.
Давайте на секунду вернемся к историческим романам. Вот стоят рядом две необычные книги, которые вносят привкус новизны. Это произведения зарубежных писателей, каждый из которых, насколько мне известно, написал всего лишь две книги. В этом зеленом с золотом томе – обе работы померанца{376} Вильгельма Мейнхольда{377} в прекрасном переводе леди Уайльд: «Колдунья Сидония» и «Янтарная ведьма». Более странного взгляда на средние века я не встречал нигде. Необычные подробности простой повседневной жизни неожиданно перемежаются совершенно дикими проявлениями жестокости. Самые странные и варварские вещи преподносится как нечто естественное и обыденное. Один эпизод производит особенное впечатление и запоминается надолго, а именно тот, в котором палач торгуется с жителями деревни по поводу того, сколько ему должны заплатить за то, что он подвергнет пытке молодую ведьму. В результате он поднимает цену с одной бочки яблок до полторы на том основании, что уже не молод, ревматизм замучил, мол, тяжело ему наклоняться и напрягаться. Сделать это нужно на пригорке, замечает он, «чтоб и детишкам видно было». И «Сидония», и «Янтарная ведьма» дают такую картину средневековой Германии, которой я не встречал более нигде.
Но Мейнхольд – представитель ушедшего поколения. Другой автор, наделенный свежим взглядом и большим талантом, – Дмитрий Мережковский{378}. Если я не ошибаюсь, он еще молод, и карьера его только начинается. «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» и «Смерть богов. Юлиан Отступник» – это две его книги, которые мне удалось раздобыть, но картины Италии эпохи Ренессанса в первой и Рима периода упадка во второй я считаю шедеврами художественной литературы. Признаюсь, читая их, я испытал удовольствие, поняв, насколько мой разум восприимчив к новым впечатлениям, ведь самая большая опасность, с которой сталкивается человек по мере взросления, заключается в том, что привязанность к старым вкусам может не оставить места для нового и заставить считать, будто дни великих достижений остались позади, хотя в действительности дело в том, что это его бедный мозг начинает окостеневать. Чтобы понять, насколько широко распространена эта болезнь, достаточно раскрыть любую критическую газету. Впрочем, вся история литературы свидетельствует: так было всегда, и, если молодого автора обескураживают неблагоприятные сравнения, он должен помнить, что такова участь всех его собратьев по перу с самого начала. Лучшее, что он может сделать, – это не обращать внимания на критику и попытаться соответствовать своим высоким стандартам, оставив остальное на суд времени и читателей. Рядом с моими книжными полками, как видите, висит лист с коротеньким стишком, который в минуты тревоги может успокоить начинающего писателя и указать ему на правильный путь:


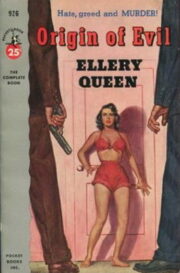
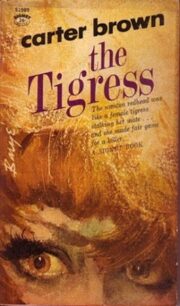


"Сквозь волшебную дверь. Мистические рассказы (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сквозь волшебную дверь. Мистические рассказы (сборник)", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сквозь волшебную дверь. Мистические рассказы (сборник)" друзьям в соцсетях.