Люди шли по своим делам. Старик, который приходил трижды в неделю помогать Уиллису, точил косу позади сарая. За полем, где тропинка, вившаяся меж живых изгородей, выходила к главной дороге, она разглядела макушку почтальона. Он катил на своем велосипеде к деревне. Она слышала, как Роджер зовет: «Деб? Деб?» Это означало, что он ее простил, но хмурое настроение не отступало. Собственная угрюмость стала ее наказанием. Вскоре по стуку молотка она поняла, что брат раздобыл у Уиллиса доски и принялся за сооружение домика. Он похож на дедушку: соблюдает порядок, который сам для себя установил.
Ее наполнила жалость. Не к себе, угрюмо сидящей на перекладине полевых воротец, а ко всем тем, кто просто живет в этом мире и не владеет ключом. Ключ у нее раньше был, и она его потеряла. Быть может, если она пройдет через этот долгий день, волшебство вернется и она обнаружит пропажу. Или даже сейчас, у пруда, может оказаться какая-то подсказка, видение.
Дебора соскользнула с ворот и пошла долгим кружным путем. Огибая поля, нещадно палимые солнцем, можно добраться до другой стороны леса, никого не встретив. Сухая пшеница сильно кололась. Чтобы не оцарапаться, приходилось держаться вплотную к живой изгороди, которая разрослась в сплошную стену. Наперстянка вымахала слишком высоко и теперь клонилась вниз пустыми раструбами, из которых уже повыпадали цветки. Повсюду росла крапива. Калитки на лесную сторону не было, и ей пришлось перебираться через ершистую живую изгородь с колючей проволокой – при этом она порвала трусы. Очутившись в лесу, Дебора почувствовала себя спокойней, но тропинки по эту сторону были некошены и заросли высокой травой. Ей пришлось брести по этой траве, словно по морю, раздвигая ее руками.
Она вышла к пруду из-за дерева-монстра, гибрида с голыми сучьями, похожими на обрубки рук покойника, торчащими во все стороны. С этой стороны, где край берега глубже вдавался в пруд, илистая пена была плотной, как ковер, и все лилии на пруду, улещенные высоко стоящим солнцем, широко раскрылись. Они нежились, словно ящерицы на горячей каменной стене. Правда, в отличие от неподвижных ящериц, их погруженные стеблями в воду розовые и восково-белые скопления грациозно раскачивались.
«Они спят, – подумала Дебора. – И лес тоже. Утро – не их время».
И ей показалось совершенно невозможным, что турникет рядом и женщина ждет улыбаясь.
«Она сказала, что они всегда здесь, даже днем, но дело в том, что я еще маленькая, и днем я слепая, я не умею видеть».
Она опустила руки в пруд – вода была тепловатая, с бурым оттенком; попробовала вкус ее на пальцах – несвежий. Солоноватая вода, застоявшаяся от долгой неподвижности. Однако внизу… внизу – она знала – ждет эта женщина, и не только женщина, а целый тайный мир. Дебора начала молиться.
– Пусть случится опять, – шептала она. – Пусть случится опять. Этой ночью. Я больше не испугаюсь.
Сонный пруд никак не отозвался, но само молчание казалось свидетельством доверия, приятием. На берегу, где во мху остался след от матраса, Дебора нашла заколку, выпавшую ночью из ее волос. Это было доказательством ее присутствия. Она бросила заколку в пруд, в свою сокровищницу. Потом пошла назад, в обычный день, в неподвижную жару, и ее мрачное настроение смягчилось. Она отправилась в сад – искать Роджера. Он трудился над помостом. Три доски были уже скреплены, и громкий стук молотка надо будет терпеливо снести. Он видел ее приближение и, как всегда после ссор, чувствовал, что ее настроение переменилось и лучше не напоминать о том, что произошло утром. Спроси он: «Все в порядке?» – это тотчас вернуло бы враждебность и она до конца дня не стала бы играть с ним. Вместо этого он никак не отозвался на ее появление. Ей полагалось заговорить первой.
Дебора подождала, стоя под деревом, потом, нагнувшись, подняла и подала ему наверх яблоко. Оно было зеленое, но предложение его означало мир. Роджер мужественно съел яблоко.
– Спасибо, – сказал он.
Она взобралась к нему на дерево и потянулась к коробке с гвоздями. Отношения были восстановлены. Брат и сестра помирились.
3
Жаркий день раскинулся, как паутина. Знойная дымка протянулась через все небо, коричневатая и непрозрачная. Скорчившись на горячих досках, дети пили имбирный лимонад и обмахивались широкими листьями. Им становилось только жарче. Когда перезвон коровьих колокольчиков позвал их к ланчу, оказалось, что бабушка задернула шторы во всех нижних комнатах и гостиная превратилась в погреб, где до странности прохладно. Они повалились на стулья. Есть никому не хотелось. Заплатка лежал под роялем, с его мягких губ капала слюна. Бабушка переоделась в полотняное платье без рукавов, которого они никогда прежде не видели, а дедушка надел матерчатую панаму и держал в руках мухобойку, которой много лет тому назад пользовался в Египте.
– Тридцать восемь, – мрачно сказал он, – на крыше Министерства авиации. В часовых новостях объявляли.
Дебора подумала о людях, которые должны измерять жару, трудясь изо всех сил на этой министерской крыше, бегая взад и вперед со всякими непонятными инструментами. Кому это интересно, кроме дедушки?
– Можно мы будем есть на улице? – спросил Роджер.
Бабушка кивнула. Разговаривать у нее не было сил, и она опустилась в свое кресло на дальнем конце обеденного стола. Розы, которые она срезала вчера вечером, уже увяли.
Дети понесли куриные ножки в летний домик. Сидеть в нем было слишком жарко, но они растянулись в отбрасываемой им тени, подсунув под голову выцветшие подушки, из которых лезла вата. Где-то высоко над их головами аэроплан карабкался вверх, как маленькая серебряная рыбка, а потом затерялся в пространстве.
– «Метеор», – сказал Роджер. – Дедушка говорит, они устарели.
Дебора думала об Икаре, взлетевшем навстречу солнцу. Заметил ли он, когда его крылья начали плавиться? Что он чувствовал? Она вытянула руки и представила, что это крылья. Первыми скрючились бы кончики пальцев, потом они стали бы вязкими, и мягкими, и бесполезными. Какой ужас – неожиданно потерять высоту, лишиться сил…
Роджер, глядя на нее, надеялся, что это какая-то игра. Он швырнул обглоданную куриную ножку в клумбу и вскочил на ноги.
– Смотри, я «Джавелин»![30] – И тоже вытянув руки, он побежал кругами, наклоняя корпус вперед. Гудел сквозь стиснутые зубы, подражая звуку двигателя.
Дебора опустила руки и посмотрела на куриную ножку. То, что от зубов Роджера сделалось чистым и белым, было теперь земляного цвета. Оскорбилось ли оно тем, что его отбросили прочь? Спустя годы, когда все будут мертвы, это найдут, превратившееся в окаменелость. И никому не будет до него дела.
– Пошли, – сказал Роджер.
– Куда? – спросила она.
– За малиной.
– Иди сам, – сказала она ему.
Роджер не любил ходить в столовую один. Он стеснялся. Дебора была его щитом от глаз взрослых. В конце концов он согласился сходить за ягодами без нее, при условии, что она поиграет с ним в крикет после чая. После чая – это еще очень нескоро.
Она смотрела, как он возвращается, неся тарелки с малиной и взбитыми сливками. Ее вдруг охватила внезапная жалость – та жалость, которую раньше она испытывала ко всем людям, кроме себя. Как он сосредоточен, как поглощен этой минутой, в которой пребывает. Но завтра он будет стариком, далеко отсюда, а этот день останется в прошлом.
– Бабушка говорит, так не может продолжаться, – объявил он. – Будет гроза.
Но почему? Почему не навсегда? Почему не прошептать заклинание, чтобы все оказались взаперти и уснули, как придворные в «Спящей красавице», ни о чем не зная, никогда не просыпаясь, с опутанными паутиной волосами и руками, в доме, который сам опутан нитями паутины?
– Давай кто скорей? – предложил Роджер, и чтобы доставить ему удовольствие, она принялась за размякшую малину, но доела, к его великой радости, позже его.
Все долгое послеполуденное время никто не трогался с места. Бабушка ушла наверх, к себе в комнату. Дети видели в окне, как она в нижней юбке плотно задергивает шторы. Дедушка в гостиной положил ноги на стул и накрыл лицо платком. Заплатка не двинулся со своего места под роялем. Роджер, не побежденный жарой, все еще находил себе занятия. Сначала он помогал Агнес лущить горох для ужина, сидя на корточках на ступеньке черного хода, пока она отдыхала в скособоченном плетеном кресле, вытащенном из гостиной для прислуги. Когда эта работа была закончена, он обнаружил убранную в подвал жестяную ванну, в которой купали Заплатку в дни его молодости. Он вытащил ванну на лужайку и наполнил водой. Затем, раздевшись до купальных трусов, торжественно сел в нее, раскрыв над головой зонтик от солнца.
Дебора лежала на спине за летним домиком, размышляя, что бы случилось, если бы Иисус и Будда встретились. Была бы между ними учтивая беседа, обмен мнениями, как между политиками во время совещаний на высшем уровне? Или они все-таки оказались бы одним и тем же лицом, рожденным в разные времена? Странно, что эта тема, интересная сейчас, ничего не значила в тайном мире. Прошлой ночью за турникетом все проблемы исчезли. Их больше не существовало. Остались только знание и радость.
Она, должно быть, уснула, потому что, открыв глаза, в смятении увидела, что Роджер уже не сидит в ванне, а вбивает в землю на лужайке столбики для крикета. Было без четверти пять.
– Скорее, – окликнул он, увидев, что она пошевелилась. – Я уже чай пил.
Она поднялась и побрела к дому, все еще сонная, чувствуя головокружение. Бабушка с дедушкой сидели в гостиной, освеженные долгим послеполуденным отдыхом. От дедушки пахло одеколоном. Даже Заплатка пришел в себя и лакал холодный чай из своего блюдца.
– У тебя усталый вид, – укоризненно заметила бабушка. – Ты здорова?
Дебора не была уверена. Голова трещала. Должно быть, от дневного сна. Она никогда не спала в такое время.
– По-моему, да, – ответила она, – но если бы мне дали жареной свинины, меня бы точно стошнило.


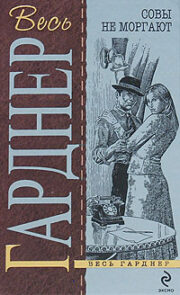

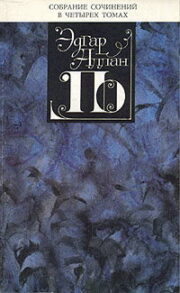

"Синие линзы и другие рассказы (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Синие линзы и другие рассказы (сборник)", автор: Дафна дю Морье. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Синие линзы и другие рассказы (сборник)" друзьям в соцсетях.