– Ты только не думай, что мы тебя забываем, – сказала Дебора беззвучным голосом, каким говорила с теми, кого считала своим. – Я всегда помню, даже в школе, прямо на уроке французского…
На уроке она чувствовала невыносимую боль оттого, что под руками у нее жесткое дерево парты, а не трава, которую она сейчас наклонилась потрогать. Дети раз поспорили – чего на свете больше: травы или песка, и Роджер сказал, что, конечно же, песка должно быть больше – из-за морского дна; во всем мире, в каждом океане, если поглядеть глубоко вниз, окажется песок. Но и трава там тоже может быть, возразила Дебора, трава, которая раскачивается, такая трава, которой никто еще никогда не видел, и цвет у этой океанской травы темнее, чем у травы на поверхности мира – в полях, или в прерии, или в садах у жителей Америки. Она выше деревьев и раскачивается, как колосья при ветре.
Они побежали в дом спросить у кого-нибудь из взрослых, чего на свете больше, травы или песка, – оба взмокшие и взбудораженные от спора. В доме им встретился дедушка в своей старой шляпе, который искал садовые ножницы, чтобы подровнять живую изгородь. Он рылся в ящике, полном шурупов и гаек, и нетерпеливо переспросил:
– Что? Что такое?
Мальчик покраснел – может быть, это глупый вопрос? – но девочка подумала: дедушка просто не знает, они никогда ничего не знают, и состроила брату гримаску, чтобы показать, что она на его стороне. Позже они спросили у бабушки, и та, будучи человеком практичным, ответила коротко и по делу:
– Я думаю, песка. Только представьте себе все эти песчинки.
И Роджер торжествующе обернулся к сестре:
– Я же тебе говорил!
Песчинки. Дебора не подумала о песчинках. При мысли о магическом множестве миллионов и миллионов песчинок, тесно жмущихся друг к другу на дне океанов, она почувствовала дурноту. Пусть Роджер победит в споре. Это неважно. Лучше быть среди меньшинства – среди качающихся трав.
Теперь, в этот первый вечер летних каникул, она опустилась на колени, потом легла, вытянувшись в полный рост на лужайке и раскинув руки, как Иисус на кресте, только лицом вниз, вновь и вновь повторяя слова, которые запомнила со времени приготовления к конфирмации. «Жертва чистая, жертва святая, безупречная… жертва искупительная за грехи мира». Предложить себя земле, саду, этому саду, который терпеливо ждал все месяцы с прошлого лета, – конечно же, это она должна сделать первым же делом.
– Пошли, – сказал Роджер; до того он с одобрением созерцал, как садовник Уиллис выкосил лужайку – в самый раз для крикета; не дожидаясь ответа сестры, он побежал к летнему домику, а там кинулся в угол, к длинному ящику, в котором хранились разобранные калитки для крикетных ворот.
Подняв крышку, он улыбнулся. Привычный запах был приятен. Старый лак, потрескавшаяся краска. И не тот ли это самый паучок и не та ли самая паутина? Он вынул, один за другим, столбики, потом – дужки, и тут оказалось: он зря боялся, что потерял мяч, – мяч был на месте. Он, впрочем, поизносился, стал серовато-красным. Роджер понюхал его и попробовал на зуб, ощутив вкус вытертой кожи. Он сгреб все имущество и отправился устанавливать калитки.
– Иди сюда, помоги мне отмерить середину поля, – позвал он сестру, и при взгляде на нее у него упало сердце: из того, как она сидела на корточках в траве, пряча в ней лицо, было ясно, что она, как с ней это случалось, полностью ушла в себя и крикет ее не занимает. – Деб, – встревоженно окликнул он, – ты играть собираешься?
До Деборы его голос доносился сквозь множество звуков земли, сквозь биение сердца и пульса. Если приложить ухо к земле, слышался гул гораздо более низкий, чем жужжание пчел или шум моря в Ханстентоне. Ближе всего к этому гулу было гудение ветра, но ветер безогляден. А гул земли терпелив. Дебора выпрямилась, и сердце у нее упало, совсем как у брата, но по причине прямо противоположной. Предстоит монотонная игра, которая станет огромным куском времени, вырванным у ее одиночества.
– Сколько времени надо будет играть? – спросила она.
Такое отсутствие энтузиазма удручило мальчика. Невелика радость, если она превратит игру в одолжение. Ему, однако, надо держаться твердо. Она всегда ухватывалась за любую уступку с его стороны и оборачивала ее к своей пользе.
– Полчаса, – ответил он и добавил в виде ободрения: – Хочешь, начинай первой.
Дебора понюхала свои колени. Они еще не пахли по-деревенски, но если тереться ими о траву, да еще и о землю, то их лондонская белизна исчезнет.
– Ладно, – сказала она, – только не больше чем полчаса.
Он поспешно кивнул и, чтобы не терять времени, отмерил центр поля и начал втыкать в землю столбики. Дебора пошла в летний домик за битами. Привычный вид небольшой деревянной постройки был ей так же приятен, как брату. Прошло уже много времени, годы, с тех пор, когда они играли в летнем домике, устраивая внутри из поломанных шезлонгов другой домик, но, как целый год ожидал их сад, так же ожидал и летний домик, высматривая их своими немытыми окнами, затянутыми паутиной. Дебора дважды поклонилась – таков был ритуал. Если бы она забыла сделать это, войдя в домик в первый раз, это сулило бы несчастье.
Она взяла две биты в углу, где они стояли вместе со старыми крокетными молотками, и сразу же поняла, что Роджер выберет ту, у которой резиновая ручка, – хотя битами они, понятное дело, будут пользоваться по очереди, а ей придется все каникулы довольствоваться меньшей, у которой осталась лишь половина обмотки. На полу валялся крокетный зажим. Она подняла его, надела себе на нос и с минуту стояла, размышляя, каково было бы жить так постоянно – с прищемленными ноздрями, отчего голос у нее сделался бы как у Петрушки. Стали бы ее жалеть?
– Скорей! – крикнул Роджер, и она кинула зажим в угол, потом, когда была уже на полдороге к полю, быстро вернулась назад, потому что знала, что зажим лежит отдельно от своих собратьев, и она может, проснувшись ночью, вспомнить о нем. А вдруг зажим озлобится и станет преследовать ее.
Она подвинула его к лежавшим на полу двум другим, он ее простил, и в летнем домике воцарился мир.
– Не выходи вперед слишком рано, – предупредил Роджер, когда Дебора встала на черту, которую он для нее отметил, и большим усилием воли заставила себя неотрывно следить, как он закатывает рукава, как отмеряет шагами расстояние для разбега. Мяч взлетел, и она, прыгнув навстречу, легко и точно ударила по нему. От удара у нее заломило руки: Роджер сознательно пропустил подхват. Оба они промолчали.
– Кто я буду? – окликнула его Дебора.
Крикет можно было терпеть, только если Роджер придумывал для нее роль. Не персонажа, а страны.
– Ты – Индия, – сказал он, и Дебора ощутила, как становится худой и темнокожей. Она была отчасти тигром, отчасти – священной коровой; высокая трава, окаймлявшая лужайку, стала джунглями, а крыша летнего домика – минаретом.
Но даже так полчаса тянулись медленно, и, когда пришла ее очередь бросать мяч по калиткам, он с каждым разом падал дальше от цели, так что Роджер, покрасневший и сконфуженный оттого, что дедушка вышел на террасу и наблюдает за ними, сердито прикрикнул на нее:
– Да постарайся же ты!
И снова она заставила себя сосредоточиться – присутствие дедушки, недовольства которого так боялся мальчик, на его сестру действовало ободряюще, будило ее воображение. Дедушка – это индийское божество, ему полагается делать приношение – золотое яблоко. Это яблоко нужно метнуть в его врагов и убить их. Дебора пробормотала молитву, мяч от ее удара пошел быстро и точно и сбил калитку Роджера. В этот момент дедушка отвернулся и побрел назад через застекленную дверь гостиной.
Роджер быстро огляделся. Его позора никто не видел.
– Удар что надо, – сказал он. – Опять твоя очередь.
Но время вышло. Часы на конюшне пробили шесть. Роджер не спеша вытаскивал из земли столбики.
– А что мы будем делать теперь? – спросил он.
Деборе хотелось побыть одной, но если она скажет это в первый вечер каникул, он обидится.
– Иди в сад и посмотри, как поспевают яблоки, – предложила она, – а потом заверни на огород, на случай если еще не всю клубнику собрали. Но проследи, чтобы по ходу дела ни с кем не встретиться. Если увидишь Уиллиса или еще кого-нибудь, даже хотя бы кошку, ты теряешь очко.
Именно такие внезапные изобретения выручали ее. Она знала: брат воспрянет духом при мысли, что ему нужно перехитрить садовника. Бесцельное хождение по саду обернется тренировкой внимания.
– Ты тоже пойдешь? – спросил он.
– Нет, – ответила она. – Ты должен проверить свою ловкость.
Он, судя по всему удовлетворившись этим ответом, побежал к саду и только приостановился, чтобы срезать себе прутик.
Как только он исчез из виду, Дебора поспешила к деревьям, окаймлявшим лужайку, и, оказавшись в лесной тени, почувствовала себя в безопасности. Она тихо шла по тропе к пруду. Позднее солнце посылало стрелы света между деревьями на лесную тропу, и мириады насекомых плели паутину своих путей в этих лучах, поднимаясь и спускаясь, как ангелы по лестнице Иакова. Но были то насекомые, думала Дебора, или пылинки, или даже частицы самого расколотого света, измельченные и разбросанные солнцем?
Стояла полная тишина. Леса предназначены для тайны. Они не узнавали ее, как узнавал сад. Их не заботило то, что она целый год пробыла в школе, или в Ханстентоне, или в Лондоне. Лес никогда не скучал по ней: он жил своей особой, мрачной, напряженной жизнью.
Дебора вышла на вырубку, к пруду, откуда разбегались пять тропинок, и на мгновение остановилась, прежде чем подойти к краю берега, потому что пруд был священный и требовал приношения. Она скрестила руки на груди и закрыла глаза. Потом скинула туфли.
– Матерь всех диких созданий, делай со мной что пожелаешь, – проговорила она вслух. Звуки собственного голоса немного напугали ее. Потом она опустилась на колени и трижды коснулась лбом земли.





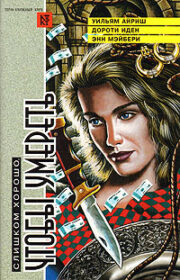
"Синие линзы и другие рассказы (сборник)" отзывы
Отзывы читателей о книге "Синие линзы и другие рассказы (сборник)", автор: Дафна дю Морье. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Синие линзы и другие рассказы (сборник)" друзьям в соцсетях.