Доктор медленно встал.
– Да,– сказал он,– надо бы показать вам бумаги…
Он подошел к полке и взял один из ящичков, вплотную заполненный карточками. Первые три слова на первой из них были написаны так крупно, что наши герои их прочитали. То были слова: «Макиэн Эван Стюарт».
Когда врач поставил ящичек на стол, Эван склонил над ним гневное лицо: но даже его орлиный взор изменил ему, и он с трудом разобрал:
«Наследственное предрасположение к навязчивым идеям. Дед верил в возвращение Стюартов. Мать хранила косточку т. н. святой Евлалии и касалась ею больных детей. Ярко выраженное религиозное помешательство…» Эван долго молчал, потом промолвил:
– О, если бы мир, который я исходил за этот месяц, был так нормален, как моя мать!
Потом он сжал голову руками, словно хотел раздавить ее; и через несколько минут явил присутствующим молодое, спокойное лицо, словно .омытое святой водой.
– Хорошо,– сказал он,– я заплачу за то, что радуюсь Богу в мире, который не способен радоваться ни человеку, ни зверю. Да, я – маньяк, я – мистик. Но он-то здоров! Слава Богу, его вам обвинить не в чем. Никто из его предков не умирал за Стюартов. Я готов поклясться, что у его матери не было реликвий. Выпустите моего друга, а что до меня…
Врач, все это время близоруко вглядывавшийся в полки, вынул другой ящичек, и другой из наших героев увидел слова:
«Тернбулл Джеймс». Дальше было написано примерно следующее:
«Редкий случай элевтеромании. Как обычно при этой болезни, родители совершенно здоровы. Первые признаки помешательства выразились в интересе к учению социалистов. Позже наблюдались приступы полной анархии…» Тернбулл оттолкнул ящичек, едва не сбросив его на пол, и горько засмеялся.
– Пошли, Макиэн,– сказал он.– Чем нам плохо в саду? Только бы уйти из этой комнаты.
Выйдя в прохладный, зеленый сад он прибавил:
– Теперь я понял самое главное.
– Что же именно? – спросил Эван.
– Выйти отсюда нельзя,– сказал редактор,– но мы легко вошли. Никто не охранял то место, где мы перелезли через стену. Это была ловушка. Двух знаменитых безумцев загнали в сумасшедший дом. Обратно нас не выпустят.
Эван серьезно поглядел на ограду больницы и молча кивнул.
Глава XV
СОН МАКИЭНА
Слежка в сумасшедшем доме была так идеально налажена, что больные жили как бы и без надзора. Они могли подойти к стене, которую никто не охранял, и думать о том, как легко им уйти. Ошибку свою они обнаруживали лишь тогда, когда и впрямь решались бежать.
На этой оскорбительной свободе, в этом мнимом уединении Эван Макиэн часто гулял по саду, когда смеркалось, и особенно часто – в лунные вечера. Луна манила его. Конечно, Аполлон так же прекрасен, как Диана, но дело было не в красоте, а в нетленном воспоминании детства. Солнце поистине невидимо – его нельзя увидеть телесным оком. Луна много доступней, и потому, должно быть, много понятней детям. Она висит в небесах неведомо зачем, серебряная, крепкая, плотная, словно вечный снежок. Именно эти воспоминания (или фантазии) влекли плененного Эвана в залитый луною сад.
Однажды, когда он бродил в обесцвеченном саду, где самыми яркими были в тот час мягкая тьма небес и бледная желтизна луны,– тогда он бродил, глядя вверх с тем странным видом, который оправдывал отчасти ошибку его стражей, он увидел, что к нему летит что-то маленькое и блестящее, словно осколок луны. Сперва он подумал, что это – обман зрения, поморгал и протер глаза. Потом он решил, что это – падающая звезда, не она не падала. Она летела плавно, как не летают метеоры, но летают творения рук человеческих. Тут она оказалась на фоне луны и стала не серебряной на синем, а черной на серебре. И Макиэн понял, что это – аэроплан.
Описав красивую дугу, небесный корабль спустился вниз и остановился над газоном, сверкая, словно доспехи сэра Галахада. Сравнение это вполне уместно, ибо тот, кто сидел в нем, был весь в белом, и голову его венчали не то ослепительно-седые, не то очень светлые волосы. Сидел он неподвижно, и Макиэн принял бы его за изваяние, если бы он не заговорил.
– Эван Макиэн,– сказал он властно, как отец, давно не видевший сына,– твой меч нужен не здесь.
– Кому и чему он нужен? – спросил Эван, почему-то не удивляясь.
– Тому, что тебе дорого,– отвечал незнакомец.– Престолу, порядку и преданию.
Эван снова взглянул на луну, но лик ее был бессмысленным, как его лицо,– природа не поможет против сверхъестественного. И он взглянул на незнакомца.
– Кто вы? – спросил он, и сразу же испугался, что на вопрос его ответят. Но незнакомец долго молчал, потом промолвил:
– Я не могу сказать, кто я, пока стоит мир. Но я скажу, что я: Я – закон.
Он поднял голову, и луна осветила его лицо. То было лицо греческого бога, безупречно-правильное, если бы не слишком длинный раздвоенный подбородок. Широко открытые глаза сверкали, но были бесцветны.
Макиэн был из тех, для кого порядок и ритуал естественнее своеволья. Он поклонился и спросил тише, чем прежде:
– Вы принесли мне весть?
– Да,– отвечал незнакомец.– Король вернулся.
– Я готов,– сказал Макиэн.– Вы возьмете меня с собой?
Серебряная статуя кивнула. Тогда Макиэн сел в серебряную ладью, и они полетели к звездам.
Это не метафора, ибо небеса очистились и стали такими прозрачными, что были ясно видны и звезды, и луна.
Когда облеченный в белые одежды поднял ввысь свою небесную ладью, он спокойно сказал Эвану:
– Вот тебе ответ на глупые толки о равенстве. Одни светила больше, другие
– меньше. Планеты вращаются вокруг звезд. Все они подчинены закону, но не равны.
– Все они прекрасны,– медленно сказал Эван.
– Они потому и прекрасны, что знают свое место,– отвечал небесный кормчий.– Теперь и Англия станет прекрасной по той же причине. Земля уподобится небу, ибо вернулся король.
– Стюарт…– серьезно начал Эван.
– Тот, кто вернулся,– прервал его собеседник,– старше Стюартов. Он и Тюдор, и Плантагенет, и Пендрагон. Вернулось старое время; вернулся век Сатурна; вернулось все, утраченное по воле неповиновения и мятежа – твой предок, погибший в битве, и Карл, отказавшийся отвечать мятежному суду, и Мария, обратившая волшебное лицо к неверным пэрам. Это Ричард, последний Плантагенет, отдающий корону Болингброку, как отдают кошелек разбойнику. Это Артур, окруженный язычниками и умирающий во мгле, не зная, вернется ли он на этот остров.
– А теперь…– тихо промолвил Эван.
– Теперь он вернулся,– сказал сверкающий.– Там, за морем, еще надо победить последних врагов, но в Англии правит он. Люди снова стали счастливыми рыцарями, счастливыми сквайрами, счастливыми слугами, счастливыми крестьянами. Они свободны от пустого и тяжкого бремени, которое зовется гражданством.
– Неужели все это так? – спросил Эван.
– Можешь убедиться сам,– отвечал его собеседник.– Мне кажется, ты бывал тут.
Там, куда они летели, небеса были темны, но на черном сверкали серебром купол и крест. Наверное, их посеребрили заново, ибо они поистине обратились в белое пламя. Однако Эван сразу узнал эти места и подумал о том, вставили новое стекло в пустой редакции или нет.
Когда летающая ладья оказалась над собором, Макиэн различил и другие перемены. По всему куполу, на галерее, серебряными изваяниями стояли рыцари в латах, держа вверх остриями обнаженные мечи. Рыцари были живые, они охраняли крест; и Эван задохнулся, как задыхаются дети, когда увидят что-нибудь слишком красивое. Ничто на свете не могло бы так полно воплотить его мечты, как этот белый купол, вознесшийся над Лондоном тройной тиарой мечей.
Вглядевшись в улицы, Эван убедился, что его собеседник прав: все дышало порядком. Исчезли невесть куда суета и шум. Скромно и нарядно одетые люди степенно шли туда и сюда, и не по одному, а живописными группами, если не рядами; порядок же охраняли конные рыцари, застывшие на перекрестках, и латы их сверкали скорее алмазным, чем стальным блеском. Лишь на одном перекрестке – на углу Бувери-стрит – какой-то старик замешкался, переходя дорогу, и рыцарь не очень сильно ударил его по спине.
– Так нельзя,– сказал Макиэн.– Старик не может идти быстро.
– Порядок на улицах очень важен,– сказал одетый в белое.
– Справедливость важнее порядка,– сказал Макиэн.
Спутник его молчал. Лишь когда они летели над Сэнт-Джеймс-парком, он промолвил:
– Их надо научить послушанию. И я не уверен,– он вгляделся в тьму,– я не уверен, что ты прав. Порядок в обществе гораздо важнее, чем справедливость к человеку.
Эван, глядевший вниз, обернулся к нему.
– Порядок в обществе…– отрывисто повторил он,– важнее… чем справедливость к человеку?
Потом он помолчал и спросил:
– Кто ты такой?
– Я ангел,– отвечал, не глядя на него, одетый в белые одежды.
– Ты не католик,– сказал Макиэн.
Одетый в белое не ответил, но сказал так:
– Наше воинство стоит на том, что младшие боятся старших.
– Говори еще! – вскричал Макиэн.– Говори!
– Кроме того,– продолжал его собеседник,– нам, избранным, пристали гордость и суровость.
– Говори! – восклицал Эван, и глаза его горели.
– Грех оскорбляет Господа,– продолжал неизвестный,– но и безобразие Его оскорбляет. Те, кто прекрасен и велик, обязаны проявлять нетерпимость к тем, кто убог, жалок и…
– Дурак! – крикнул Макиэн, вставая во весь рост.– Неужели ты не мог сказать иначе? Я знаю, что бывают плохие рыцари; я знаю, что хорошие рыцари – лишь слабые люди. Я знаю, что у Церкви есть дурные слуги и злые князья. Я всегда это знал. Ты мог бы сказать: «Да, зря он это сделал!» – и я бы все забыл. Но я увидел твое лицо и понял: что-то нечисто с тобой и с твоим законом; Что-то… нет, все. Ты не ангел. Ты – не от Церкви. И король, который вернулся, не вправе править людьми.
– Жаль, что ты это говоришь,– промолвил его собеседник спокойно и жестко,– ибо ты скоро предстанешь перед королем.


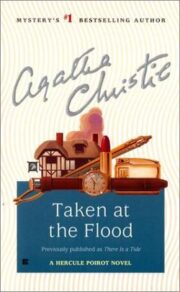
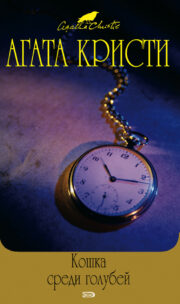


"Шар и крест" отзывы
Отзывы читателей о книге "Шар и крест", автор: Гилберт Кийт Честертон. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Шар и крест" друзьям в соцсетях.