И юноша двинулся по ней дальше со всей быстротой, на какую был способен, надеясь, что с любого поворота, с любой горки вот-вот увидит своих утренних спутников. Между Винни Риджем и Ринфилд-Уоком леса становятся особенно густыми и глухими и подступают к самой дороге, но вдали открываются широкие серовато-коричневые торфяные пустоши, на которых темными пятнами выделяются отдельные купы деревьев; эти пустоши поднимаются друг над другом удлиненными изгибами и тянутся до темной линии более далеких лесов. Тучи насекомых плясали, жужжа, в золотистом свете осени, воздух был полон птичьим писком и пением. Крупные, поблескивающие стрекозы проносились над дорогой или висели над ней, трепеща крыльями и сверкая тельцами. Однажды морской орел с белой шеей, клекоча, проплыл в небе над головой Аллейна, стайка коричневых дроф высунулась из кустов и, то вспархивая, то неловко ковыляя, снова скрылась с пронзительным писком и хлопаньем крыльев.
Попадались ему на большой дороге и люди — нищие и гонцы, коробейники и лудильщики, по большей части веселый народ: для каждого, в том числе и для Аллейна, у них находились и соленая шутка и дружеское приветствие. Поблизости от Шотвуда он нагнал пятерых моряков, они шли из Пула в Саутгемптон — суровые краснолицые парни; эти моряки обратились к нему на жаргоне, который он понимал с трудом, и предложили ему выпить из большого кувшина, из которого только что пили сами, и не хотели отпускать, пока он не зачерпнул содержимое кувшина своей жестяной кружкой; сделав глоток, юноша чуть не задохнулся, раскашлялся, по щекам его побежали слезы.
Затем он встретил коренастого мужчину верхом на гнедой лошади; в правой руке мужчина держал четки и длинный двуострый меч, звякавший об его железное стремя. По черной одежде и восьмиконечному кресту на рукаве Аллейн узнал в нем одного из рыцарей-госпитальеров, чей орденский дом находился в Бадсли. Проезжая мимо, рыцарь поднял два пальца и сказал: «Benedico, fili mi»[117]. Аллейн снял шапку и преклонил колено, глядя с глубоким почтением на человека, посвятившего свою жизнь борьбе с неверными. Бедный простодушный юноша еще не знал, что между тем, за кого человек выдает себя, и тем, каков он на самом деле, существует огромная разница и что госпитальеры завладели немалой частью богатств злополучных тамплиеров, были слишком избалованы и вовсе не собирались менять свои дворцы на походные палатки, и винные подвалы Англии — на безводные пустыни Сирии. Но порой неведение драгоценнее мудрости, ибо Аллейн, шагая дальше, утверждался в мыслях о возвышенной духовной жизни: он рисовал себе, чем ради нее пожертвовал этот человек, и укреплял свою душу его примером, хотя едва ли стал бы это делать, если бы знал, что госпитальер больше думает о мальвазии, чем о мамелюках, и об оленине, чем о победах.
В окрестностях Виверли-Уок поля снова сменились лесами, а с юга стала подниматься большая туча, сквозь края которой просвечивало солнце; затем звонко шлепнулось на дорогу несколько крупных капель, и прошумел короткий ливень, капли падали вперемежку с листьями. Аллейн, озираясь в поисках убежища, увидел густые и высокие кусты падуба, они образовали как бы навес, и земля под ним была так суха, что суше не могло бы быть и в доме. Под этим навесом уже сидели на корточках двое, и они махали Аллейну, чтобы он присоединился к ним. Приблизившись, он увидел, что перед ними лежат пять сухих селедок, большая краюха пшеничного хлеба и стоит кожаная фляга с молоком; но незнакомцы, вместо того, чтобы приступить к еде, как будто совсем забыли о ней: раскрасневшись и размахивая руками, сердито спорили они о чем-то. По одежде и повадкам в них нетрудно было узнать странствующих студентов, которых в те времена было полным-полно в каждой европейской стране. Один был долговяз и тощ, с меланхолическим выражением лица, другой — жирен и гладок, говорил очень громко и имел вид человека, не терпящего возражений…
— Поди сюда, добрый юноша, — воскликнул он, — поди сюда! Vultus ingenui puer[118]. Пусть тебя не пугает лицо моего дорогого родственничка. Foenum habet in cornu[119], как сказал поэт Гораций; но все же ручаюсь, что он вполне безобиден.
— Заткни свою глотку! — воскликнул другой. — Уж если дело дошло до Горация, то мне вспоминается другая строка: Loquaces si sapiat! — неплохо? А по-английски это значит: человек разумный должен-де избегать болтунов. Но если бы все люди были разумными, то ты оказался бы печальным исключением.
— Увы, Дайкон, боюсь, что твоя логика так же слаба, как твоя философия или твое богословие. Ей-богу, трудно хуже защищать свое утверждение, чем это делаешь ты. Слушай: допустим, propter argumentum[120], что я болтун, тогда правильный вывод такой: все должны избегать меня, а ты не избегаешь и в настоящую минуту поедаешь вместе со мной селедки под кустами, ergo[121], человек ты неразумный, а я как раз об этом и жужжу в длинные твои уши с тех пор, как смотрю на твои тощие щеки.
— Ах вот как! — воскликнул его товарищ. — Язык у тебя работает не хуже мельничного колеса! Подсаживайся, друг, и возьми селедку, — обратился он к Аллейну, — но сначала заметь себе, что с этим связаны особые условия.
— А я-то надеялся, — сказал Аллейн, впадая в тот же шутливый тон, — что с этим связаны ломоть хлеба и глоток молока.
— Только послушай его, только послушай! — воскликнул толстый коротышка. — Вот как дело обстоит, Дайкон! Остроумие, парень, все равно что зуд или потница. Я распространяю его вокруг себя, это точно аура. Говорю тебе, кто бы ни приблизился ко мне на расстояние семнадцати шагов, в него попадет искра. Взгляни хотя бы на самого себя. Более унылого человека я не встречал, однако за одну неделю и ты изрек три вещи, которые звучат нехудо, да еще одну — в тот день, когда мы покинули Фордингбридж, и от которой я и сам не отказался бы.
— Довольно, трещотка несчастная, довольно! — остановил его другой. — Молоко ты, друг, получишь и хлеб тоже вместе с селедкой, но ты должен рассудить нас беспристрастно.
— Если он возьмет селедку, то должен судить беспристрастно, мой премудрый собрат, — заявил толстяк. — Прошу тебя, добрый юноша, скажи нам, ученый ли ты клирик, и если да, то где ты учился — в Оксфорде или в Париже.
— Кое-какой запас знаний у меня есть, — ответил Аллейн, берясь за селедку, — но ни в одном из этих мест я не был. Меня воспитали монахи-цистерцианцы в аббатстве Болье.
— Фу! Фу! — воскликнули студенты в один голос. — Что это за воспитание?
— Non cuivis contingit adire Corinthum[122], — пояснил Аллейн.
— А знаешь, брат Стефан, кой-какая ученость у него есть, — сказал меланхолик бодрее. — И он может оказаться вполне справедливым судьей, ибо ему незачем поддерживать одного из нас. Теперь внимание, дружище, и пусть твои уши работают так же усердно, как твоя нижняя челюсть. Iudex damnatur[123] — ты знаешь это древнее изречение. Я защищаю добрую славу ученого Дунса Скотта против дурацких софизмов и убогих, нелепых рассуждений Уилли Оккама.
— А я, — громко заявил другой, — защищаю здравый смысл и выдающуюся ученость высокомудрого Уильяма против слабоумных фантазий грязного шотландца, который завалил крошечный запас своего ума такой грудой слов, что этот ум исчез в них, словно одна капля гасконского в бочонке воды. Сам Соломон не мог бы объяснить, чтó этот мошенник имеет в виду.
— Конечно, Стефен Хэпгуд, такой мудрости недостаточно! — воскликнул другой. — Это все равно, как если бы крот стал бунтовать против утренней звезды оттого, что не видит ее. Но наш спор, друг, идет о природе той тончайшей субстанции, которую мы называем мыслью. Ибо я вместе с ученым Скоттом утверждаю, что мысль в самом деле есть нечто подобное пару, или дыму, или многим другим субстанциям, по отношению к которым наши грубые телесные очи слепы. Видишь ли, то, что производит вещь, само должно быть вещью, и если человеческая мысль способна создать написанную книгу, то сама эта мысль должна быть чем-то материальным, подобно книге. Понятно ли, что я хочу сказать? Выразиться ли мне яснее?
— А я считаю, — крикнул другой, — вместе с моим достопочтенным наставником doctor preclarus et excellentissimus[124], что все вещи суть только мысли; ибо когда исчезнет мысль, скажи, прошу тебя, куда денутся вещи? Вот вокруг нас деревья, и я вижу их оттого, что мыслю о том, что вижу их. Но если я, например, в обмороке, или сплю, или пьян, то моя мысль исчезает, и деревья исчезают тоже. Ну что, попал я в точку?
Аллейн сидел между ними и жевал хлеб, а они, перегибаясь через его колени, спорили, раскрасневшись и размахивая руками в пылу доказательств. Никогда не слышал он такого схоластического жаргона, таких тончайших дистинкций, такой перестрелки бóльшими и меньшими посылками, силлогизмами и взаимными опровержениями. Вопрос гремел об ответ, как меч о щит. Древние философы, отцы церкви, современные мыслители, священное писание, арабы — всем этим каждый стрелял в противника, а дождь продолжал идти, и листья падубов стали темными и блестящими от сырости. Наконец толстяк, видимо, умаялся, ибо тихонько принялся за еду, а его оппонент, точно петух-победитель, сидящий на навозной куче, прокукарекал в последний раз, выпустив целый залп цитат и выводов. Однако его взгляд вдруг упал на пищу, и он издал вопль негодования.
— Ты вор вдвойне! — заорал он. — Ты слопал мои селедки, а у меня с самого утра во рту маковой росинки не было.
— Вот это и оказалось моим последним доводом, — пояснил сочувственно его товарищ, — моим завершающим усилием, или peroratio[125], как выражаются ораторы. Ибо если все мысли суть вещи, то тебе достаточно подумать о паре селедок, а потом вызвать таким же заклинанием кувшин молока, чтобы их запить.
— Честное рассуждение, — воскликнул другой, — и я знаю на него только один ответ. — Тут он наклонился и громко шлепнул толстяка по розовой щеке. — Нет, не обижайся, — сказал он, — если вещи — это лишь мысли, то и пощечина — только мысль и в счет не идет.



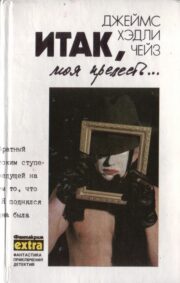


Прекрасное произведение для любителей истории!
Отличное произведение Артура Конан Дойла!
Великолепное погружение в атмосферу прошлого!
Захватывающие приключения!
Отличное произведение для любителей приключений!
Отличный роман для любителей Артура Конан Дойла!
Очень захватывающая история!
Очень интересные персонажи!