— Что я наделал? О, Боже мой, что я наделал! Комендор Винтгэм, после отчаянной ночной схватки, первым вбежал в страшную столовую. Вокруг стола сидело бледное безмолвное общество. Признаки жизни виднелись только у молодой девушки, которая застонала и еле заметно шевельнулась. Но в комнате был еще один человек, у которого хватило энергии исполнить последний долг. Пораженный комендор, остановившийся у двери, видел, как медленно приподнялась упавшая на стол седая голова и как высокая фигура профессора, шатаясь, поднялась на ноги.
— Берегитесь икры! Ради Бога, не дотрагивайтесь до икры! — прохрипел он.
Потом он снова упал на свое место, и круг смерти завершился.
[17]
3 января. Проверить счета Уайта и Уодерспуна будет делом нелегким. Предстоит просмотреть двадцать огромных гроссбухов. Каков в действительности окажется младший партнер? Это первое большое поручение, возложенное на меня, и мне хотелось бы достойно выполнить его. Я должен справиться. Проверку следует закончить к сроку, чтобы результаты ее оказались в руках юристов до начала судебного процесса. Джонсон сказал утром, что я должен выверить все до последней цифры к двадцатым числам месяца. Что ж, за работу, и если человеческий мозг и нервы способны выдержать такую нагрузку, я справлюсь с заданием. Это означает работу в конторе с десяти до пяти, а потом снова сидение за столом с восьми вечера до часу ночи. Таков удел бухгалтера. В самые ранние часы суток, когда мир еще погружен в сон, я просматриваю столбец за столбцом в поисках недостающих цифр, которые смогут удостоверить, что уважаемый член муниципалитета — преступник, и мне начинает казаться, что моя профессия не так уж прозаична.
В понедельник я впервые натолкнулся на растрату. Ни одному охотнику на крупную дичь, напавшему на след, не испытать более острого волнения. Но взглянув на двадцать гроссбухов, я не мог не подумать о чащобах, сквозь которые придется продираться, прежде чем я доберусь до своей добычи. Тяжкий труд — но в то же время великолепное развлечение! Я как-то видел этого толстяка на обеде в Сити, его разрумянившуюся физиономию, сиявшую поверх белой салфетки. Он скользнул взглядом по бледному маленькому человечку на другом конце стола. Думаю, что его щеки побледнели бы, знай он, какая работа мне предстоит.
6 января. Что за дурацкая манера у докторов — рекомендовать отдых, когда ни о каком отдыхе не может быть речи! Ослы! С таким же успехом можно кричать человеку, за которым гонится стая волков, что ему необходим полный покой. Мои расчеты должны быть готовы к определенному числу, если этого не случится, я упущу открывшиеся передо мною возможности. Какой же может быть отдых? После суда я отдохну недельку.
Возможно, не стоило обращаться к доктору. Но от ночного сидения за работой я сделался нервен и до крайности возбудим. Я не ощущаю болей, а только тяжесть в голове, и по временам дымка застилает глаза. Я подумал, что, быть может, какой-либо бромид, или хлорал, или что-то в этом роде пошли бы мне на пользу. О том же, чтобы прервать работу, смешно даже говорить. Здесь как при беге на длинные дистанции. Сначала чувствуешь головокружение, сердце колотится, дышать трудно, но если сумеешь превозмочь себя, приходит второе дыхание. Даже если оно не придет, я не брошу работать. Два гроссбуха уже позади, и порядочная часть третьего проверена. Мошенник ловко запутывал следы, но я обнаружил их, несмотря ни на что.
9 января. Я не собирался больше идти к доктору. Однако пришлось. «Нервы напряжены, могут прийти в полное расстройство, существует опасность для здоровья». Хорошенькое предостережение. Но я не могу себе позволить рассслабиться и стану рисковать здоровьем и дальше; пока я в состоянии сидеть за столом и держать перо в руках, буду выслеживать старого мошенника.
Да, надо же написать и о странной истории, из-за которой мне пришлось прибегнуть к помощи доктора на этот раз. Я запишу подробно то, что мне довелось видеть и ощущать, поскольку это интересно само по себе — «любопытнейший психофизиологический казус», как определил доктор, — и поскольку я уверен, что некоторое время спустя все виденное покажется мне нереальным, ускользающим, подобно смутным образам, промелькнувшим в мгновения между сном и явью, и пока впечатления не стерлись, я должен записать их, хотя бы для того, чтобы отвлечься от бесконечных цифр.
В комнате у меня есть оправленное в серебряную раму зеркало, подарок друга, знавшего толк в антиквариате. Насколько я помню, он купил зеркало на распродаже и не имел понятия о том, как оно там очутилось. Оно довольно большое — три фута в ширину и два в высоту — и стоит на боковом столике слева от моего рабочего места. Рама плоская, около трех дюймов шириной, старинная, настолько старинная, что на ней нет ни клейма, ни другого знака, дающего возможность определить, когда она сделана. Отражательная способность венецианского стекла великолепна и, представляется мне, присуща лишь изделиям старых мастеров. Когда глядишь в зеркало, создается ощущение г\убины, которой не чувствуешь в созданиях современных зеркальщиков.
Зеркало поставлено так, что, сидя за столом, я вижу в нем отражение багряных оконных штор и больше ничего. Но вчера вечером случилась удивительная вещь. Я проработал несколько часов, превозмогая себя, время от времени цифры расчетов сливались, их словно застилало дымкой. Все чаще мне приходилось прерывать работу, протирать глаза. При этом я мимолетно глянул в зеркало. Там творилось нечто странное. Привычного отражения багряных штор не было, но зеркало туманилось, причем не его поверхность, сверкавшая, как сталь, но самая его глубина. Когда я всмотрелся, мне почудилось, что зыбкая дымка медленно вращалась то в одну, то в другую сторону, затем сгустилась в белое клубящееся облако. Картина эта выглядела так реально, что я не мог не обернуться, решив, что шторы загорелись. Но в комнате царило спокойствие — никаких звуков, кроме тиканья часов, никакого движения, кроме медленного вращения странного облака в глубине старого зеркала.
Затем, по мере того, как я смотрел, дымка, или туман, или облако — как ни назови, — казалось сконцентрировалось в двух точках, расположенных неподалеку одна от другой, и я вдруг понял, вздрагивая не столько от страха, сколько от любопытства, что это — два глаза, глядящие из зеркала в комнату. Мне удалось различить очертания головы, еле видимой в тумане, — женской, судя по прическе. Лишь глаза были видны совершенно явственно, темные, горящие, полные ненависти или ужаса — трудно определить, чего именно. Никогда раньше мне не приходилось видеть глаз, полных такой напряженной, яркой жизни. Взгляд их, не задержавшись на мне, был устремлен в глубь комнаты. Я выпрямился, провел рукой по лбу, и, сделав усилие, пришел в себя: очертания головы растаяли, зеркало медленно прояснилось и в нем снова возникло отражение багряных штор.
Скептики, безусловно, могут сказать, что я заснул над цифрами и все увиденное в зеркале было сном. Но я никогда не чувствовал себя в большей степени бодрствующим. Я не усомнился в этом даже пока смотрел в зеркало, и говорил себе, что это мое впечатление — фантазия, результат перенапряжения и бессонницы. Но почему именно в такой форме? И кто эта женщина, какие страсти обуревали ее и отражались в ее прекрасных карих глазах? Они продолжали преследовать меня и тогда, когда я уже вернулся к работе. Впервые мне не удалось полностью выполнить дневную норму, какую я себе определил. Возможно, именно потому сегодня вечером ничего необычного не случилось. Утром мне нужно рано встать во что бы то ни стало.
11 января. Все хорошо, и мне удалось сделать изрядную часть работы. Я опутываю сетью — виток за витком — это грузное тело. Но если меня подведут нервы или мне недостанет сил, — смеяться последним будет он. Зеркало оказывается чем-то вроде барометра, свидетельствующего о степени моего утомления. Каждую ночь, складывая работу, я смотрю, не затуманилось ли оно.
Доктор Синклер (он, кажется, в некотором роде психолог) настолько заинтересовался моим случаем, что зашел сегодня вечером взглянуть на зеркало. Я показал ему с трудом обнаруженную неразборчивую надпись, сделанную на обороте рамы. Он рассматривал надпись в лупу, но не пришел ни к какому выводу. В конце концов он прочел ее как «Sane. X. Pal.», но и это не дало нам ничего определенного. Доктор порекомендовал мне перенести зеркало в другую комнату, но ведь что бы мне ни мерещилось в зеркале, это, по мнению доктора, лишь симптом. Опасность заключается в том, что эти симптомы вызывает. Двадцать гроссбухов — а не серебряное зеркало — вот что стоило бы унести отсюда подальше, если бы это было возможно. Сейчас я работаю над восьмым.
13 января. Быть может, зеркало все же следовало бы убрать. В последнюю ночь благодаря ему мне довелось пережить ощущения, ни с чем не сравнимые. Они настолько захватили меня, что теперь ни за что не стану убирать зеркало.
Думается, было около часу ночи, я приводил в порядок книги, прежде чем идти спать, как вдруг увидел перед собою ее. Небольшого роста фигура дамы была видна очень отчетливо, и каждая черта, каждая деталь ее одежды запечатлелись в моей памяти. Она находится у самого левого края зеркала. Рядом с ней кто-то, едва видимый, — я сумел различить, что это мужчина — припадает к земле — а за ними туман, в котором угадываются мелькающие фигуры. Нет, передо мною отнюдь не картина. Это живая сцена, происходящий на моих глазах эпизод. Женщина мертвеет и дрожит. Мужчина рядом с ней сжимается в комок. Мечутся тени, неясно обозначившиеся в темноте. Все мои страхи улетучились, я сгорал от любопытства. Было бы просто безумием, увидев так много, не смотреть больше.
Теперь наконец я могу описать женщину вплоть до мельчайших подробностей.
Она очень красива и совсем молода — ей не больше двадцати пяти лет, насколько я могу судить. Волосы ее, прекрасного каштанового оттенка, отливают золотом. Маленькая плоская шапочка углом ложится на лоб, кружевная, шитая жемчугом. Лоб высокий, возможно, слишком высокий для идеальной красавицы, но ничего иного нельзя себе вообразить, поскольку он придает властность и силу ее женственному и нежному лицу. Тяжелые веки под изяшно выгнутыми бровями, глаза — огромные, темные, полные захлестнувших ее чувств, ненависти или ужаса, противоречат ее гордости и самообладанию, позволяющему ей сохранять присутствие духа. Щеки мертвенно бледные, губы белые от испытываемой муки, изящная линия подбородка и шеи. Женщина сидит, наклонясь вперед, в кресле, напряженная и застывшая, оцепенев от ужаса. На ней платье черного бархата, драгоценный камень пламенем горит на груди, и золотое распятие поблескивает в складках материи. Кто она, знатная дама, чей облик продолжает жить в старом серебряном зеркале? Что за злодеяние оставило в зеркале отпечаток, который и сейчас, в иную эпоху волнует душу?




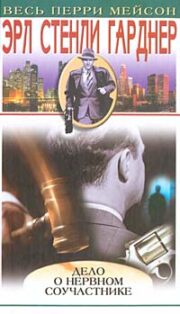

Артур Конан Дойл прекрасно передает атмосферу времени, привнося жизнь и цвет в каждую страницу.
Этот сборник представляет собой великолепное достижение в литературе, которое не может не восхищать.
Этот сборник представляет собой великолепное путешествие в мир прошлого, полное интриг и захватывающих приключений.