Леонардо был умен, находчив и хитер. Спланировал все он. Говорю я это не для того, чтобы переложить вину на него. Я была готова пройти с ним каждый шаг этого пути. Но моего ума не хватило бы, чтобы измыслить подобное. Мы изготовили дубину – Леонардо изготовил, – и к свинцовому концу он припаял пять длинных стальных гвоздей остриями наружу, точно по форме львиной лапы. Дубина, чтобы нанести смертельный удар моему мужу и создать впечатление, будто нанес его лев, которого мы выпустим из клетки.
Ночь была непроглядно темной, когда мой муж и я пошли, как было у нас в обычае, накормить льва. Мы несли сырое мясо в цинковом ведерке. Леонардо ждал за углом большого фургона, мимо которого мы должны были пройти по дороге к клетке. Он замешкался, и мы уже прошли мимо него, прежде чем он успел нанести удар. Но он последовал за нами на цыпочках, и я услышала треск, когда дубина размозжила череп моего мужа. При этом звуке мое сердце подпрыгнуло от радости. Я бросилась вперед и отодвинула засов дверцы большой львиной клетки.
И тут произошло ужасное. Возможно, вы слышали, как быстро эти хищники чуют запах человеческой крови и в какое неистовство он их приводит. Непонятный инстинкт подсказал зверю, что сражен человек. Едва я приоткрыла дверцу, как во мгновение ока он выпрыгнул наружу и набросился на меня. Леонардо мог бы меня спасти. Если бы он подбежал и ударил льва дубиной, он укротил бы его. Но он струсил. Я услышала, как он закричал от ужаса, увидела, как он повернулся и кинулся наутек. В тот же миг клыки льва сомкнулись на моем лице. Его смрадное жаркое дыхание сразу одурманило меня, и я почти не ощущала боли. Ладонями я попыталась оттолкнуть от себя огромные, словно дымящиеся, окровавленные челюсти и закричала, призывая на помощь. Я сознавала, что в лагере поднялась суматоха, а затем смутно помню группу подбегающих мужчин. Леонардо, Григгс и другие извлекли меня из-под львиных лап. Это было моим последним воспоминанием, мистер Холмс, на протяжении долгих томительных месяцев. Когда я очнулась и увидела себя в зеркале, я прокляла этого льва – ах, как я его проклинала! – не за то, что он уничтожил мою красоту, но за то, что он не оборвал мою жизнь. У меня было лишь одно желание, мистер Холмс, и достаточно денег, чтобы его исполнить. Так укрыть мое бедное лицо, чтобы никто не мог его увидеть, и жить там, где никто из тех, кого я знала, не мог бы меня отыскать. Сделать я могла только это, и сделала. Бедная раненая зверюшка, которая уползла в свою норку умереть, – таков конец Юджинии Рондер.
Когда несчастная женщина завершила свою историю, некоторое время мы сидели в молчании. Затем Холмс протянул свою длинную руку и погладил ее пальцы с таким сочувствием, какое я редко у него замечал.
– Бедная девочка! – сказал он. – Бедная девочка! Пути судьбы поистине трудно постичь. Если не существует какой-либо компенсации по ту сторону могилы, тогда наш мир – жестокая шутка. Ну, а этот Леонардо?
– Я больше никогда его не видела и не получала от него никаких известий. Возможно, я несправедливо ожесточилась против него. Любить объедки льва? Почему бы и не какую-нибудь из уродиц, которых мы возили по стране? Но женская любовь так легко не умирает. Он оставил меня в когтях льва, он покинул меня в час моей нужды, и все же я не могла послать его на виселицу. Меня не трогало, что будет со мной. Что могло быть ужаснее уже случившегося? Но я встала между Леонардо и его участью.
– И он умер?
– Утонул в прошлом месяце, купаясь вблизи Маргейта. Я прочла о его смерти в газете.
– А что он сделал с когтистой дубиной, самой особенной и хитроумной деталью вашего рассказа?
– Право, не знаю, мистер Холмс. Возле лагеря был заброшенный карьер с тинистой водой, заполнившей его дно. Может быть, тина там прячет…
– Ну, сейчас это значения не имеет. Дело закрыто.
Мы уже встали, чтобы уйти. Но что-то в голосе женщины заставило Холмса быстро обернуться к ней.
– Ваша жизнь вам не принадлежит, – сказал он, – руки прочь от нее.
– Чем она может быть полезна кому бы то ни было?
– Откуда вам знать? Пример терпеливого страдания сам по себе уже бесценный урок в нетерпеливом мире.
Ее ответ был ужасен. Она откинула вуаль и вошла в полосу света.
– Не знаю, смогли бы вы это вынести, – сказала она.
Жутчайшее зрелище. Нет слов, чтобы описать лицо, которого нет. Два живых и красивых карих глаза, печально глядевшие из этого нестерпимого обезображивания, делали его лишь страшнее. Холмс поднял ладонь жестом жалости и протеста, и мы вместе покинули комнату.
Два дня спустя, когда я навестил моего друга, он с некоторой гордостью указал на голубой пузырек в уголке каминной полки. Я взял пузырек в руки и увидел красную наклейку, предупреждающую о яде. Когда я открыл пузырек, в воздухе разлился приятный запах миндаля.
– Синильная кислота? – сказал я.
– Совершенно верно. Пришло по почте. «Посылаю вам мой соблазн. Я последую вашему совету». Вот что было в записке. Думаю, Ватсон, мы с вами знаем имя мужественной женщины, написавшей ее.
Побелевший кавалерист
Идеи моего друга Ватсона хотя и ограниченны, но необыкновенно прилипчивы. Долгое время он докучал мне требованием самому написать о каком-нибудь моем случае. Быть может, я сам навлек на себя это бедствие, поскольку часто имел основания указывать ему на то, как поверхностны его собственные изложения, и обвинять его в потакании вкусам публики, вместо того чтобы ограничиваться фактами и цифрами. «Сами попробуйте, Холмс!» – парировал он, и вот, взявши в руку перо, я вынужден признать, что материал необходимо подать таким образом, чтобы заинтересовать читателей. Предлагаемый случай отвечает этому требованию, так как принадлежит к наиболее странным в моих запасах, хотя так уж вышло, что в коллекции Ватсона он отсутствует. Кстати, о моем старом друге и биографе: хочу воспользоваться этой возможностью и заметить, что если в моих разнообразных пустячных расследованиях я обременял себя товарищем, то не по дружбе или прихоти, но потому, что у Ватсона самого есть некоторые примечательные дарования, которым по благородству он не уделял никакого внимания, преувеличенно оценивая мою деятельность. Наперсник, предугадывающий твои выводы и намерения, опасен. Но тот, для кого каждый новый поворот событий неизменно оказывается сюрпризом, а будущее всегда остается закрытой книгой, поистине идеальный помощник.
Моя записная книжка напоминает, что в январе 1903 года сразу после хаоса бурской войны я познакомился с мистером Джеймсом М. Доддом, широкоплечим, бодрым, загорелым честным британцем. В то время мой добрый Ватсон покинул меня ради жены – единственный его эгоистичный поступок на протяжении наших отношений, какой я помню, и я пребывал в одиночестве.
У меня есть привычка сидеть спиной к окну, а моих посетителей сажать в кресло напротив, так, чтобы свет падал на них полностью. Мистер Джеймс М. Додд, казалось, не знал толком, как начать разговор. Я не пробовал помочь ему, так как его молчание давало мне больше времени понаблюдать за ним. Я давно убедился, насколько разумно внушать клиентам веру в твою проницательность, а потому сообщил ему кое-какие свои выводы.
– Полагаю, вы прибыли из Южной Африки, сэр?
– Да, сэр, – с некоторым удивлением ответил он.
– Думаю, имперские конные волонтеры?
– Совершенно верно.
– Миддлсекский полк, без сомнения?
– Именно так. Мистер Холмс, вы колдун!
Я улыбнулся его растерянности.
– Когда джентльмен мужественного облика входит в мою комнату с таким загаром на лице, каким английское солнце одарить не может, и с носовым платком в рукаве вместо кармана, не так уж трудно определить, кто он. Ваша короткая бородка показывает, что вы служили не в регулярных частях. Вы выглядите кавалеристом. А что до Миддлсекса, ваша визитная карточка уже сообщила мне, что вы биржевой маклер с Фрогмортон-стрит. В какой другой полк могли вы поступить?
– Вы видите все.
– Вижу я не больше, чем вы, но я натренировал себя замечать то, что я вижу. Однако, мистер Додд, вы пришли ко мне сегодня утром не обсуждать науку наблюдательности. Что произошло в Таксбери-Олд-Парке?
– Мистер Холмс!..
– Дорогой сэр, тут нет никакой тайны. Так было помечено ваше письмо, а настойчивость, с которой вы подчеркивали неотложность вашего дела, ясно показывала, что случилось нечто внезапное и важное.
– О да! Письмо было отправлено днем, а затем произошло еще многое… Если бы полковник Эмсуорт не вышвырнул меня вон…
– Вышвырнул!
– Ну, несколько в переносном смысле. Железный человек, полковник Эмсуорт. В свое время самый крутой солдафон в армии. И это было время не слишком мягких выражений. Я бы не сунулся к полковнику, если бы не Годфри.
Я закурил трубку и откинулся в кресле.
– Не объясните ли, о чем, собственно, вы говорите?
Мой клиент лукаво усмехнулся.
– Я поверил, что вы все знаете без всяких объяснений, – сказал он. – Но я изложу вам все факты и горячо надеюсь услышать от вас, что они означают. Я ночь не спал, прикидывая так и эдак, и чем больше я думаю, тем невероятнее все это кажется.
Когда я записался волонтером в январе тысяча девятьсот первого года, ровно два года назад, Годфри Эмсуорт поступил в тот же эскадрон. Он единственный сын полковника Эмсуорта, – Эмсуорта, удостоенного Креста Виктории за Крымскую кампанию, так что он унаследовал кровь воина, а потому неудивительно, что он стал добровольцем. В полку ему не было равных. Между нами завязалась дружба – такая дружба, которая возникает, когда вы живете одной жизнью и делите одни печали и радости. Он был моим товарищем, а в армии это много значит. Целый год постоянных боев, все плохое и хорошее было у нас общим. Затем в сражении при Даймонд-Хилле под Преторией он был ранен пулей из ружья для слоновьей охоты. Я получил одно письмо из госпиталя в Кейптауне и еще одно из Саутгемптона. С тех пор, мистер Холмс, ни слова, ни единого словечка вот уже шесть месяцев с лишним, а он был самым близким моим другом.


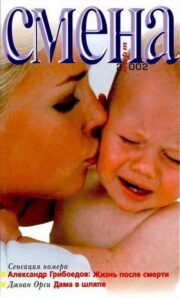
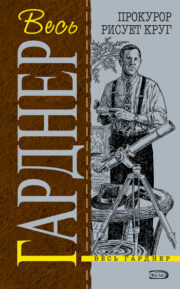


"Самые знаменитые расследования Шерлока Холмса" отзывы
Отзывы читателей о книге "Самые знаменитые расследования Шерлока Холмса", автор: Артур Конан Дойл. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Самые знаменитые расследования Шерлока Холмса" друзьям в соцсетях.