Его планировалось провести там, где всегда проводились подобные мероприятия, – в Длинном амбаре поместья «Полнорт-Хаус». Длинный амбар являлся одной из местных достопримечательностей. Заезжие антиквары пожирали его глазами, измеряли, фотографировали со всех сторон. О нем писали научные труды. В Сент-Лу амбар считался чем-то вроде общественного достояния. Местные жители очень им гордились.
В следующие два дня наш дом оказался в эпицентре событий. Дамы – члены Оргкомитета турнира практически дневали и ночевали у нас.
Я был рад, что остался несколько в стороне от их бурной деятельности, однако Тереза время от времени присылала ко мне некоторых избранных представительниц, чтобы я, как она говорила, не скучал и не замыкался в себе.
Поскольку моей невестке было известно, что мне нравится Милли Берт, то последняя довольно часто оказывалась в моей гостиной, и мы вместе выполняли различные поручения, например писали пригласительные билеты, вырезали или наклеивали украшения.
Во время выполнения одной из таких задач Милли и поведала мне историю своей жизни. Безжалостные слова Габриэля оказались правдой: я мог оправдать свое жалкое существование, лишь превратившись в этакий приемник для чужих мыслей и чувств. Может, ни для чего другого я уже не годился, но вполне мог выслушивать других.
Со мной Милли Берт говорила вполне откровенно, без стеснения. Речь ее журчала и лилась, словно ручеек.
Довольно часто она упоминала о Габриэле. Со дня первой встречи ее кумир не только не упал со своего пьедестала, но, наоборот, вознесся в ее глазах еще выше.
– Ах, капитан Норрис, – щебетала она, – знаете, что в нем самое замечательное? Его потрясающая доброта. Несмотря на массу неотложных дел и постоянную занятость, он никогда ни о чем не забывает. А говорить с ним – одно удовольствие! Никогда еще я не встречала такого человека!
– Тут вы, безусловно, правы, – соглашался я.
– И смотрите: у него такой блестящий послужной список, он проявил себя во время войны настоящим героем – и притом не придает своим военным подвигам никакого значения и совершенно не зазнался. Обращается со мной, словно я – невесть какая важная персона. И вот со всеми он так. У него для каждого отыщется доброе слово. Он помнит, у кого сын погиб, у кого служит в Бирме или еще где-нибудь далеко… Он каждого умеет подбодрить и развеселить. Просто не представляю, как ему это удается.
– Должно быть, он хорошо помнит стихотворение Киплинга «Если», – холодно парировал я.
– Да, не сомневаюсь, что каждая минута его жизни насыщена до предела – каждые шестьдесят секунд!
– Скорее всего, в его минуте сто двадцать секунд. Шестидесяти ему недостаточно.
– Как бы мне хотелось лучше разбираться в политике, – мечтательно говорила Милли. – Я прочла все брошюры, но совершенно не умею спорить и убеждать людей, за кого следует голосовать. Понимаете, я совершенно теряюсь, когда мне задают вопросы.
Я попытался ее утешить:
– Такие вещи приходят только с опытом. Все равно, по-моему, вся предвыборная борьба и дебаты крайне неэтичны.
Она вопросительно посмотрела на меня.
Я объяснил:
– Нельзя заставить человека голосовать против его убеждений.
– А, теперь понятно, что вы хотели сказать… Но ведь мы действительно считаем, что только консерваторы способны остановить войну и направить общество по верному пути!
– Миссис Берт, вы просто очаровательная маленькая тори! Наверное, именно так вы и агитируете потенциальных сторонников?
Она вспыхнула:
– Нет, на самом деле я совершенно не умею говорить о политике… Но я могу сказать – и говорю – о том, какой замечательный человек майор Габриэль, какой искренний и что голосовать людям, которые неравнодушны к судьбе страны, следует именно за таких, как он.
«Что ж, – думал я, – именно это ему и нужно…» Я смотрел на ее раскрасневшееся лицо, на сверкающие карие глаза и размышлял: может, дело зашло несколько дальше, чем простое обожествление героя войны?
Словно отвечая на невысказанный вопрос, Милли посерьезнела – словно тучка закрыла солнце.
– Джим считает, что я просто дура, – виновато заметила она.
– Неужели? Почему?
– Он говорит, что такая дура, как я, ничего не смыслит в политике и все равно политика – грязное дело. И еще он говорит, какого… то есть, от меня там толку мало, и, как только я начну убеждать и вербовать сторонников, это все равно как если бы я вербовала голоса для кандидата от противников. Как вы считаете, капитан Норрис, он прав?
– Нет, – твердо ответил я.
Она просветлела:
– Я знаю, в каких-то вопросах я действительно ничего не смыслю, особенно когда я нервничаю, а Джиму всегда удается меня разволновать и напугать. Ему нравится меня оскорблять. Он любит… – Она замолчала, губы ее задрожали.
Внезапно она отбросила в сторону полоски бумаги, которые нарезала, и горько зарыдала.
Я растерялся:
– Дорогая миссис Берт…
Но что, спрашиваю я вас, может тут поделать беспомощный калека в инвалидном кресле? Я не мог погладить ее по плечу – она сидела не слишком близко ко мне. Я не мог протянуть ей носовой платок. Я не мог извиниться и незаметно выскользнуть из комнаты.
Да, мне оставалось лишь выполнять свою функцию, насчет которой Габриэль так любезно и своевременно просветил меня, сказав, что она – единственное, что у меня осталось. Так что я беспомощно проговорил: «Дорогая миссис Берт…» – и стал ждать.
– Я так несчастна… так ужасно несчастна… Теперь мне ясно: не надо было выходить за Джима замуж!
Я пытался слабо возражать:
– Не расстраивайтесь, наверное, все не так уж плохо…
– Он был такой веселый, отчаянный и так много шутил… Он часто заходил к нам проведать лошадей: у моего отца была конная школа. Джим великолепно смотрелся верхом на лошади.
– Да… да.
– И тогда он так не пил – а может, пил, только я этого не замечала. Хотя, наверное, мне стоило быть повнимательней, потому что все соседи говорили мне о его слабости… Намекали, что он перебирает… Но я, капитан Норрис, им не верила. Плохому о любимом человеке обычно не веришь, правда?
– Правда.
– Я надеялась, когда мы поженимся, он бросит пить. Уверена, когда мы были помолвлены, он вообще не пил. Капли в рот не брал!
– Наверное, – согласился я. – Когда мужчина ухаживает, он способен и не на такое.
– Еще поговаривали о его жестокости, только я не верила. Ко мне он относился тогда так хорошо… Хотя однажды я видела, как он бил лошадь… он словно совершенно потерял рассудок… – Ее передернуло. С полузакрытыми глазами она продолжала: – На секунду или две я… сама его испугалась. Я подумала, что, если он такой, я никогда не выйду за него… Понимаете, очень странно – на секунду мне показалось, что я его совсем не знаю, что передо мной не мой Джим, а совершенно незнакомый человек. Вот было бы забавно, если бы я тогда разорвала нашу помолвку. Вы не находите?
Я находил, что «забавно» – совсем не то слово, которое тут уместно, но согласился, что тогда отказ от помолвки действительно был бы забавным, а также весьма счастливым исходом.
– А потом, – продолжала Милли, – все прошло. Джим объяснил, что все мужчины иногда теряют рассудок, и я с ним согласилась. Тогда мне не показалось это важным. Видите ли, я считала, что сумею сделать его таким счастливым, что он никогда не потянется к бутылке и не впадет в ярость. На самом деле именно потому я и хотела выйти за него замуж – я хотела сделать его счастливым.
– Сделать другого счастливым не является истинной целью брака, – заметил я.
Она с удивлением посмотрела на меня:
– Но ведь если вы кого-то любите, разве не хотите вы в первую очередь сделать любимого человека счастливым?
– Одна из наиболее коварных форм самообольщения! И к тому же широко распространенная. По статистике, такое заблуждение разрушило больше браков, чем что-либо еще.
Она выжидательно смотрела на меня, по-прежнему ничего не понимая. Я напомнил ей грустные строчки Эмили Бронте:
Любовь по-разному приходит. Но лишь к раскаянью ведет!
– По-моему, это ужасно! – возразила она.
– Любовь, – продолжал я, – означает обременение любимого почти непосильной ношей.
– Какие вы странные вещи говорите, капитан Норрис!
Казалось, Милли сейчас захихикает.
– Не обращайте на меня внимания, – заявил я. – Я не придерживаюсь общепринятых взглядов только потому, что в прошлом имел печальный опыт…
– Значит, вы тоже были несчастливы? – оживилась Милли. – А вы…
Я поспешил снова перевести разговор на Джима Берта. К несчастью, слабой и легкоранимой Милли совершенно не стоило выходить замуж за такого человека, как Берт. Из того, что я о нем слышал, я заключил, что и в женщинах, и в лошадях его привлекает сила характера. Какая-нибудь сварливая ирландка сумела бы удержать его в узде, и он бы невольно уважал ее за это. Таким, как он, противопоказано иметь власть над животным или над человеком. Его садизм подпитывался страхом, который испытывала перед ним жена, ее слезами и вздохами. Самое же обидное, что, по моим представлениям, из Милли вышла бы прекрасная жена для большинства мужчин. Она бы слушала мужа, расхваливала его на все лады, окружала бы его заботой и тем самым способствовала бы росту самоуважения мужа и его хорошему настроению.
Вдруг мне пришло в голову: из нее вышла бы прекрасная жена для Джона Габриэля. Может, она и не подогревала бы его честолюбие, но так ли уж он честолюбив на самом деле? Вряд ли. И ей удалось бы смягчить горечь и неверие в себя, то и дело проглядывавшие через его обычную, почти нестерпимую, самоуверенность.




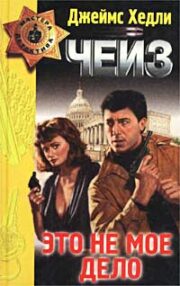
Эта книга Агаты Кристи произвела на меня глубокое впечатление. Она показывает нам, как далеко может достигнуть человек, когда он прилагает максимум усилий к достижению своей цели. Герои книги проявляют много упорства и выносливости в поисках своего счастья. Их история показывает нам, что нам нужно бороться за то, что мы хотим, и не бояться преодолеть любые препятствия на пути к успеху.
Я была подвластна атмосфере загадочности и драматизма, которые Агата Кристи создала в своей книге.
Книга Агаты Кристи «Роза и тис» предоставляет интересный взгляд на природу человеческой дружбы и любви.
Эта книга предлагает проникнуть в сердца и души героев и понять их мотивацию.