— …рад познакомиться с вами, мистер Нокс. Как я понимаю, страна созрела для великого возвращения к Богу… вам надо помочь подать себя как следует… был бы результат, мы не постоим за ценой… был на двух ваших собраниях… большое впечатление… они ловили каждое ваше слово… это было великолепно… великолепно!
Бог и Большой Бизнес. Совместимы ли они? Почему бы нет? Если деловая хватка — Божий дар человеку, почему бы не поставить ее на службу Богу?
Ллевеллин не колебался, потому что этот человек и комната — это было часть предначертанного ему плана, показанного в видении. Это был его путь. Была ли в том человеке искренность — простейшая искренность, которая может показаться забавной, как наивные фигуры старинной резьбы на купели? Или он просто увидел некоторую деловую перспективу? Осознал, что Бога можно использовать для получения прибыли?
Ллевеллин этого так и не узнал, но его это не волновало. Это часть предначертанного ему пути. Он проводник посланий, не больше, подчиненное лицо.
Пятнадцать лет… От небольших собраний на открытом воздухе до лекториев, больших залов, огромных стадионов.
Лица, колышущаяся масса лиц, удаленные на расстоянии, встающие рядами. Ждущие, жаждущие…
А что он? Всегда одно и то же.
Холодность, отголоски страха, пустота, ожидание.
И вот доктор Нокс встает и… слова идут, спешат сквозь мозг, рвутся с губ… Не его слова — никогда это не были его слова. Но слава, экстаз от произнесения этих слов — это остается ему.
(Вот тут-то и таилась опасность. Странно, что он смог понять это только теперь.)
И последствия: льстивость женщин, сердечность мужчин, чувство смертельной усталости, тошнота, — а тут радушие, поклонение, истерия.
И он сам, хотя и пытался сделать все, что мог, больше не посланник Божий, а несовершенное человеческое существо, гораздо меньшее, чем те, кто смотрел на него с глупым обожанием, — потому что дар покинул его. В нем не осталось ничего от человеческого достоинства. Слабое, больное создание, полное отчаяния, черного, опустошающего отчаяния.
«Бедный доктор Нокс, — говорили люди. — У него такой усталый вид. Усталый. Все более и более усталый…»
Физически он был сильным человеком, но не настолько сильным, чтобы выдержать пятнадцать лет подобной жизни. Тошнота, головокружение, сердцебиение, провалы в памяти, обмороки — все ясно: полный износ организма.
Итак, горный санаторий. Лежишь без движения, уставившись в окно, за которым темные ветви сосен разрезают полотно неба, и круглое розовое лицо склоняется над тобой, и серьезные совиные глаза за толстыми стеклами очков.
— Курс лечения будет длительным. Наберитесь терпения.
— Да, доктор.
— К счастью, у вас сильный организм, но вы беспощадно его эксплуатировали. Сердце, легкие — все органы так или иначе затронуты.
— Хотите подготовить меня к тому, что мне предстоит умереть?
Вопрос был задан с легким любопытством.
— Нет, конечно. Мы вас снова поставим на ноги. Как я уже сказал, лечение будет длительным, но вы выйдете отсюда здоровым. Только…
Доктор колебался.
— Только что?
— Вы должны понять, доктор Нокс. В будущем вам следует вести тихую, спокойную жизнь. Больше никаких публичных выступлений. Ваше сердце этого не выдержит. Никаких трибун, никаких речей, никакого напряжения.
— Но после отдыха…
— Нет, доктор Нокс! Сколько бы вы ни отдыхали, мой приговор остается прежним.
— Понятно. — Он подумал. — Понятно. Израсходовался?
— Именно так.
— Израсходовался. Инструмент, который Бог использовал для своих целей. Хрупкий человеческий инструмент не выдержал. Изношен, отправлен в отставку, выброшен вон.
И что же теперь?
Вот в чем вопрос. Что дальше?
В конце концов, что ты такое, Ллевеллин Нокс?
Он должен это выяснить.
Голос Уайлдинга мягко вторгся в его думы.
— Имею ли я право спросить, каковы ваши планы на будущее?
— Нет у меня никаких планов.
— В самом деле? Возможно, вы надеетесь вернуться…
Ллевеллин прервал его с некоторой жесткостью в голосе:
— Назад пути нет.
— Какая-то иная форма деятельности?
— Нет. Полный разрыв. Так надо.
— Вам так сказано?
— Не в таких словах. Публичная жизнь исключается, это главное. Никаких выступлений. Значит, конец.
— Спокойное, тихое существование где-нибудь в глуши. Существование — это не для вас, я понимаю. Но стать священником в какой-нибудь церкви?
— Я был вестником, сэр Ричард. Это совсем другое дело.
— Извините. Кажется, я понимаю. Вам предстоит начать совершенно новую жизнь.
— Да, частную жизнь. Как и положено человеку. Мужчине.
— Так что же вас смущает и тревожит?
— Не в том дело… Видите ли, за те недели, что я живу здесь, я ясно понял, что я избежал огромной опасности.
— Какой опасности?
— Человек не выдерживает испытания властью. Она разлагает его — изнутри. Сколько еще я мог бы продержаться, пока в меня не заползла эта зараза. Я подозреваю, что она уже начала свое действие. В те моменты, когда я говорил перед огромными толпами людей, не начинал ли я думать, что это говорю я, что это я шлю им послания. Я знаю, что им следует и чего не следует делать. Я был уже не проводником посланий Бога, а представителем Бога. Понимаете? Человек, вознесенный над другими людьми.
Несколько успокоившись, он добавил:
— Господь в доброте своей спас меня от этого.
— И после всего, что случилось, ваша вера не уменьшилась?
Ллевеллин засмеялся.
— Вера? Мне это слово кажется странным. Разве мы верим в солнце, луну, стул, на котором сидим, землю, по которой ходим? Если есть знание, зачем еще вера? И выбросьте из головы мысль, что я пережил какую-то трагедию. Нет. Я шел заданным мне курсом — и сейчас иду. Правильно было то, что я приехал сюда, на остров; правильно будет, что я уеду, когда придет время.
— Вы хотите сказать, что получите… как вы это называете — приказ?
— О нет, не столь определенно. Но понемногу определится дальнейший курс, и он будет не только желательный, но и неизбежный. Тогда я начну действовать. Мне все будет ясно — куда я должен ехать и что делать.
— Так просто?
— Да. Попробую это объяснить. Это вопрос гармонии. Неверный курс — я имею в виду не зло, а ошибку — его сразу чувствуешь, как будто споткнулся во время танца или взял фальшивую ноту. — Поддавшись воспоминанию, он сказал: — Будь я женщиной, я бы сказал: как будто упустил петлю при вязании.
— Кстати о женщинах. Вы, видимо, вернетесь домой? Отыщете свою раннюю любовь?
— Сентиментальный конец? Вряд ли. К тому же Кэрол давным-давно замужем, у нее трое детей и преуспевающий муж. Наши с Кэрол отношения никогда не были чем-то серьезным, просто гулял парень с девушкой, вот и все.
— И в вашей жизни другой женщины не было за все эти годы?
— Слава Богу, нет. Если бы я встретил ее…
Он не докончил, оставив Уайлдинга в легком недоумении. Тот не мог знать, какая картина встала перед мысленным взором Ллевеллина: крылья темных волос, изящные височки, трагические глаза.
Ллевеллин знал, что настанет день и он встретит ее. Она так же реальна, как тот стол в офисе и окно санатория. Она существует. Если бы он встретил ее во время своего проповеднического служения, ему пришлось бы от нее отказаться. Тогда бы от него этого потребовали. Смог ли бы он это выполнить? Он не был уверен. Его темная леди не Кэрол, не легкое весеннее увлечение юноши. Но теперь от него не требовали жертвы. Теперь он свободен. И когда они встретятся… Он не сомневался, что встретятся. Когда, где, при каких обстоятельствах — неизвестно. Указаниями ему служили только каменная купель в церкви да языки пламени. Однако у него было ощущение, что он подошел очень близко, что скоро это случится.
Внезапно распахнулась дверь между шкафами, и он вздрогнул. Уайлдинг обернулся и, удивленный поднялся с кресла.
— Дорогая, я не ожидал…
На ней не было ни испанской шали, ни глухого черного платья — что-то прозрачное, струящееся, лилово-розовое, она как будто принесла с собой старомодный запах лаванды. Увидав Ллевеллина, она остановилась и уставилась на него странным, ничего не выражающим взглядом.
— Дорогая, как твоя голова, лучше? Это доктор Нокс. Знакомьтесь — моя жена.
Ллевеллин вышел вперед, пожал ее вялую руку и церемонно сказал:
— Рад познакомиться с вами, леди Уайлдинг.
В ее глазах появилась жизнь — чуть заметное облегчение. Она села в кресло, которое ей придвинул Уайлдинг, и заговорила в стремительном стаккато[218].
— Так вы доктор Нокс? Я про вас читала. Как странно, что вы приехали сюда, на остров. Зачем? То есть что вас заставило? Это необычно, правда, Ричард? — Она полуобернулась к нему и торопливо продолжала: — Правда же, обычно люди тут подолгу не живут. Приплывают — и уплывают. Куда? Не знаю. Покупают фрукты, соломенные шляпы и дурацких кукол, потом возвращаются на корабль, и корабль уходит. Куда они уплыли? В Манчестер?[219] В Ливерпуль?[220] А может, в Чичестер[221], наденут там плетеную соломенную шляпу и пойдут в церковь. Смешно. Люди вообще смешные. Говорят: «Не знаю, я прихожу или ухожу?» Моя няня так говорила. Но ведь это правда? Это жизнь. Приходит человек или уходит? Я не знаю.
Она покачала головой и вдруг засмеялась. Ллевеллин видел, что она покачнулась, когда садилась; он подумал: «Она вот-вот потеряет сознание. Интересно, муж знает?»
Но быстрый взгляд на Уайлдинга все ему объяснил. Этот опытный путешественник ничего не понимал. Он наклонился к жене, и лицо его осветилось любовью и тревогой.

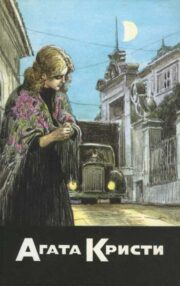
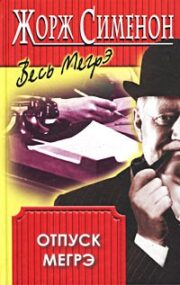


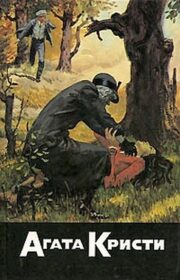
Эта книга Агаты Кристи просто потрясающая! Она показывает нам настоящую силу любви и преданности между матерью и дочерью. Я поражена тем, как Агата Кристи проникает в души героев и показывает их противоречивые чувства и мысли. Она позволяет нам понять, что любовь может быть не только сильной, но и болезненной. Эта книга действительно прекрасна и заставляет нас задуматься о наших отношениях с близкими людьми.