Уайлдинг с радостью приветствовал его и извинился за отсутствие жены.
— Она мучается мигренями. Я надеялся, что здешняя мирная и тихая жизнь приведет к улучшению, но что-то не заметно. И врачи, кажется, не знают причины.
Ллевеллин выразил вежливое сочувствие.
— Она перенесла много горя, — сказал Уайлдинг. — Больше, чем может вынести девушка, а она была очень молода — да и сейчас тоже.
Видя выражение его лица, Ллевеллин мягко сказал:
— Вы ее очень любите.
Уайлдинг вздохнул.
— Слишком люблю — для моего счастья.
— А для ее?
— Никакая на свете любовь не возместит страданий, доставшихся на ее долю.
Он говорил горячо. Между ними уже установилась странная близость — в сущности, с первого момента знакомства. Несмотря на то, что у них не было ничего общего: национальность, воспитание, образ жизни, вера — все было различно, — они приняли друг друга без обычной сдержанности и соблюдения условностей. Как будто вдвоем выжили на необитаемом острове, а потом были долго разлучены. Они разговаривали легко и искренне, с детской простотой.
Потом пошли за стол. Ужин был превосходный, отлично сервированный, хотя непритязательный. От вина Ллевеллин отказался.
— Может, виски?
— Нет, спасибо, просто воду.
— У вас, простите, это принцип?
— Нет. Образ жизни, которому я больше не обязан следовать. Сейчас нет причин, по которым я не должен пить вино, просто я его не пью.
Поскольку гость произнес слово «сейчас» с ударением, Уайлдинг вскинул на него глаза. Заинтригованный, он открыл было рот, чтобы спросить, но сдержал себя и заговорил о посторонних вещах. Он был хорошим рассказчиком, с широким кругом тем. Он не только много путешествовал, бывал в разных частях земного шара, но имел дар все, что видел и испытал, живо представить слушателю.
Если вы хотели побывать в пустыне Гоби, или в Феззане, или в Самарканде, — поговорив с Ричардом Уайлдингом, вы как бы уже побывали там.
Его речь не была похожа на лекцию, он говорил естественно и непринужденно.
Ллевеллин получал удовольствие от беседы с ним, его все больше интересовал Уайлдинг сам по себе. Его магнетическое обаяние было несомненным, хотя и неосознанными, Уайлдинг не старался излучать обаяние, это получалось само собой. Он был человек больших способностей, проницательный, образованный, без надменности, он живо интересовался людьми и идеями, как раньше интересовался новыми местами. Если он и избрал себе область особого интереса… это был его секрет, он ничему не отдавал предпочтения и потому всегда оставался человечным, теплым, доступным.
Однако у Ллевеллина не было ответа на простейший, прямо-таки детский вопрос: «Почему мне так нравится этот человек?»
Дело было не в талантах, а в самом Уайлдинге.
Ллевеллину вдруг показалось, что он нашел разгадку. Потому что этот человек, несмотря на все свои таланты, снова и снова совершает ошибки и, будучи по натуре человеком добрым и мягким, постоянно натыкается на неприятности, принимая неправильные решения.
У него не было ясной, холодной и логичной оценки людей и событий; вместо этого была горячая вера в людей, а это гибельно, потому что основана на доброте, а не на фактах. Да, этот человек вечно ошибается, но он чудесный человек. Ллевеллин подумал: вот кого я ни за что на свете не хотел бы обидеть.
Они опять развалились в креслах в библиотеке. Горел камин — скорее для видимости. Рокотало море, доносился запах ночных цветов.
Уайлдинг откровенно сообщил:
— Я всегда интересовался людьми. Чем они живут. Это звучит хладнокровно и аналитично?
— Только не в ваших устах. Вы интересуетесь людьми, потому что любите их.
— Да. Если можешь чем-то помочь человеку, это следует делать. Самое достойное занятие.
— Если можешь, — повторил Ллевеллин.
Уайлдинг глянул на него недоверчиво.
— Ваш скепсис кажется очень странным.
— Это лишь признание огромных трудностей на этом пути.
— Неужели это так трудно? Человеку всегда хочется, чтобы ему помогли.
— О да, мы склонны верить, что каким-то загадочным образом другие могут добыть для нас то, чего сами мы не можем — или не хотим добыть для себя.
— Сочувствие — и вера, — серьезно сказал Уайлдинг. — Верить в лучшее в человеке — значит вызвать это лучшее к жизни. Люди отзываются на веру в них. Я в этом неоднократно убеждался.
— И по-прежнему убеждены?
Уайлдинг вздрогнул, будто задели его больное место.
— Вы можете водить рукой ребенка по листу бумаги, но, когда вы отпустите руку, ребенку все равно придется учиться писать самому. Ваши усилия могут только задержать развитие.
— Вы пытаетесь разрушить мою веру в человека?
Ллевеллин с улыбкой ответил:
— Я прошу вас иметь жалость к человеческой натуре.
— Побуждать людей проявлять лучшие…
— Значит заставлять их жить по очень высоким стандартам, стараться жить сообразно вашим ожиданиям, значит быть в постоянном напряжении. А излишнее напряжение приводит к коллапсу[210].
— Так что же, рассчитывать на худшее в людях? — язвительно спросил Уайлдинг.
— Приходится признать такую возможность.
— И это говорит служитель религии!
Ллевеллин улыбнулся.
— Христос сказал Петру, что тот предаст его трижды, прежде чем прокричит петух. Он знал слабость Петра лучше, чем знал это сам Петр, но любил его от этого не меньше.[211]
— Нет, — с силой возразил Уайлдинг. — Не могу с вами согласиться. В моем первом браке, — он запнулся, но продолжал, — моя жена — она была прекрасная женщина. Она попала в неудачные обстоятельства; все, что ей было нужно, — это любовь, доверие, вера. Если бы не война… Что ж, это одна из маленьких трагедий войны. Меня не было, она была одна, попала под дурное влияние.
Он помолчал и отрывисто добавил:
— Я ее не виню. Я допускаю: она жертва обстоятельств. Но в то время я был сражен. Я думал, что никогда не оправлюсь. Но время лечит…
Он сделал жест.
— Не знаю, зачем я вам рассказываю историю своей жизни. Лучше послушаю вашу. Вы для меня нечто абсолютно новое. Хочу знать все ваши «как» и «почему». На том собрании вы произвели на меня сильное впечатление. Не потому, что вы повелевали аудиторией — это и Гитлер умел. Ллойд Джордж[212] умел. Политики, религиозные лидеры, актеры — все могут это в большей или меньшей степени. Это дар. Нет, меня интересовал не производимый вами эффект, а вы сами. Почему это дело казалось вам стоящим?
Ллевеллин медленно покачал головой.
— Вы спрашиваете то, чего я сам не знаю.
— Конечно, тут сильная религиозная убежденность. — Уайлдинг говорил с некоторым смущением, и это позабавило Ллевеллина.
— Вы хотели сказать — вера в Бога? Так проще. Но это не ответ на ваш вопрос. Молиться Богу можно, опустившись на колени, в тихой комнате. Зачем публичная трибуна?
Уайлдинг нерешительно сказал:
— Видимо, вам казалось, что таким путем вы принесете больше добра, убедите большее число людей.
Ллевеллин в задумчивости смотрел на него.
— Из того, как вы это говорите, я заключаю, что вы неверующий?
— Не знаю, просто не знаю. В некотором роде верю. Хочу верить… Я безусловно верю в положительные качества людей: доброту, помощь падшим, честность, способность прощать.
Ллевеллин помолчал.
— Добродетельная Жизнь. Добродетельный Человек. Да, это легче, чем прийти к признанию Бога. Признать Бога — это трудно и страшно. Но еще страшнее выдержать признание Богом тебя.
— Страшнее?
Ллевеллин неожиданно улыбнулся.
— Это напугало Иова[213]. Он, бедняга, понятия не имел, что его ждет. В мире закона и порядка, поощрений и наказаний, распределяемых Всевышним в зависимости от заслуг, он был выделен. (Почему? Этого мы не знаем. Было ли ему нечто дано авансом? Некая врожденная сила восприятия?) Во всяком случае, другие продолжали получать поощрения и наказания, а Иов вступил в то, что казалось ему новым измерением. После достопохвальной жизни его не вознаградили стадами овец и верблюдов — наоборот, ему пришлось претерпеть неописуемые страдания, потерять веру и увидеть, как от него отвернулись друзья. Он должен был выдержать ураган. И вот, избранный для страданий, он смог услышать глас Божий. Ради чего все это? Ради того, чтобы он признал, что Бог есть. «Будь спокоен и знай, что я Бог». Ужасающее переживание. Этот человек достиг высшего пика. Но продолжаться долго это не могло. Конечно, трудно было об этом рассказывать, потому что нет нужных слов и невозможно духовное событие выразить в земных понятиях. И тот, кто дописал Книгу Иова до конца, так и не сумел понять, про что она; но он сочинил счастливый и высоконравственный конец, согласно обычаю того времени, и это было очень разумно с его стороны.
Ллевеллин помолчал.
— Так что, когда вы говорите, что я избрал трибуну, потому что мог сделать больше добра и обратить большее число людей, вы страшно далеки от правды. Обращение людей не измеряется количественно, а «делать добро» — выражение, не имеющее смысла. Что значит делать добро? Сжигать людей на кострах, дабы спасти их души? Возможно. Сжигать ведьм живьем как олицетворение зла? Для этого еще больше оснований. Поднимать уровень жизни обездоленных? Сейчас мы считаем, что важно это. Бороться против жестокости и несправедливости?
— С этим-то вы согласны?
— Я веду к тому, что все это — проблемы человеческого поведения. Что хорошо? Что плохо? Что правильно? Мы люди, и мы должны иметь ответы на эти вопросы ради лучшей жизни в этом мире. Но все это не имеет ни малейшего отношения к духовному опыту.

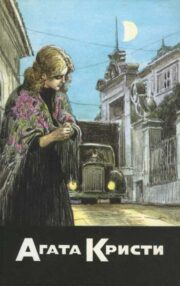
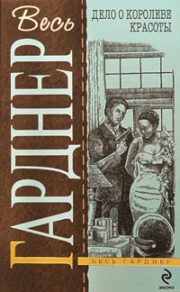



Эта книга Агаты Кристи просто потрясающая! Она показывает нам настоящую силу любви и преданности между матерью и дочерью. Я поражена тем, как Агата Кристи проникает в души героев и показывает их противоречивые чувства и мысли. Она позволяет нам понять, что любовь может быть не только сильной, но и болезненной. Эта книга действительно прекрасна и заставляет нас задуматься о наших отношениях с близкими людьми.