Он жил, предоставленный самому себе, и знал, что так и должно быть. Но он не был одинок. Вокруг жили люди, он был одним из них, хотя ни разу с ними не заговаривал. Он не искал контактов и не избегал их — вступал в беседы с разными людьми, но все это было не более чем просто обменом любезностями с другими. Они его привечали, он их привечал, но ни один не вторгался в чужую жизнь другого.
В этих отстраненных приятельских отношениях было одно исключение. Он постоянно задумывался о той девушке, что приходила в кафе и садилась под бугенвиллеей. Хотя он одаривал своим вниманием несколько заведений на пристани, чаще всего он заходил в то кафе, которое выбрал первым. Здесь он несколько раз видел ту англичанку. Она появлялась всегда очень поздно, садилась за один и тот же столик, и он с удивлением обнаружил, что она остается, даже когда все другие уходят. Она была загадкой для него, но, похоже, ни для кого другого.
Как-то раз он заговорил о ней с официантом:
— Синьора, которая сидит там, — она англичанка?
— Да, англичанка.
— Она живет на острове?
— Да.
— Она приходит сюда каждый вечер?
Официант важно сказал:
— Приходит, когда может.
Ответ был любопытный, и позже Ллевеллин его вспоминал.
Он не спрашивал ее имя. Если бы официант хотел, чтобы он узнал его, он бы сказал. Парень сказал бы ему: «Синьора такая-то, живет там-то». Поскольку он этого не говорил, Ллевеллин заключил, что есть своя причина, почему иностранцу не следует знать ее имя.
Вместо этого он спросил:
— Что она пьет?
— Бренди[204],— коротко ответил официант и ушел.
Ллевеллин заплатил и попрощался. Он прошагал меж столиков к выходу и немного постоял на тротуаре, прежде чем влиться в толпу гуляющих.
Затем он вдруг круто развернулся и прошествовал твердой, решительной поступью, присущей его нации, к столику под бугенвиллеей.
— Вы не возражаете, — спросил он, — если я посижу и поговорю с вами минуту-другую?
Глава 2
Ее взгляд медленно переместился с огней гавани на его лицо. Какое-то время глаза оставались несфокусированными. Он почти ощущал, какое она прилагает усилие, — так далеко она была отсюда. С неожиданным приливом жалости он увидел, что она очень молода. Не только годами — ей было года двадцать три, двадцать четыре, — но и вообще какой-то незрелостью. Словно нормально развивавшийся бутон прихватило морозом, и с виду он остался таким же, как остальные — но ему уже не суждено расцвести. Он и не завянет: со временем он, не раскрывшись, опадет на землю. Он подумал, что она похожа на заблудившегося ребенка. Отметил также ее красоту. Девушка была прелестна. Любой мужчина признает ее красивой, выскажет готовность заботиться о ней, защищать ее. Как говорится, все очки в ее пользу. И вот она сидит, уставившись в непостижимую даль: где-то на недолгом, легком и явно счастливом пути она потеряла себя.
Расширенные темно-синие глаза остановились на нем. Она неуверенно сказала: «О?..»
Он ждал.
Потом она улыбнулась:
— Садитесь, пожалуйста.
Он пододвинул стул и сел. Она спросила:
— Вы американец?
— Да.
— Вы с корабля?
Ее глаза опять устремились к гавани. У причала стоял корабль. Там всегда стоял какой-нибудь корабль.
— Я приплыл на корабле, но не на этом. Я живу здесь уже почти две недели.
— Здесь редко остаются так надолго. — Это было утверждение, не вопрос.
Ллевеллин подозвал официанта и заказал Кюрасао[205].
— Разрешите что-нибудь вам заказать?
— Спасибо, — сказала она. И добавила: — Он знает.
Официант наклонил голову и ушел.
Они помолчали.
Наконец она сказала:
— Видимо, вам одиноко? Здесь мало англичан или американцев.
Он видел, что она думает, как спросить — почему он с ней заговорил.
— Нет, — сразу же сказал он. — Мне не одиноко. Я обнаружил, что рад остаться один.
— О да, это приятно, не правда ли?
Его удивило, с какой страстью она это произнесла.
— Я вас понимаю. Потому вы и приходите сюда?
Она кивнула.
— Чтобы побыть одной. А я пришел и помешал.
— Нет. Вы не в счет. Вы здесь чужой.
— Понятно.
— Я даже не знаю вашего имени.
— Хотите знать?
— Нет. Лучше не говорите. Я тоже не скажу свое.
Она с сомнением добавила:
— Но вам, наверное, уже сказали. В кафе меня все знают.
— Нет, не сказали. Я думаю, они понимают, что вам бы этого не хотелось.
— Понимают… У них у всех удивительно хорошие манеры. Не благоприобретенные, а от рождения. До того как я приехала сюда, ни за что бы не поверила, что естественная вежливость так замечательна — так благотворна.
Подошел официант с двумя бокалами. Ллевеллин заплатил.
Он посмотрел на стакан, который девушка обхватила обеими руками.
— Бренди?
— Да. Бренди очень помогает.
— Почувствовать себя одинокой?
— Да. Помогает — почувствовать свободу.
— А вы несвободны?
— Разве кто-нибудь свободен?
Он задумался. Она сказала эти слова без горечи, с какой их обычно произносят, — просто спросила.
— «Каждый носит свою судьбу за плечами» — так вы это чувствуете?
— Ну, не совсем. Скорее так, что твой жизненный курс вычислен, как курс корабля, и должно ему следовать, и, пока ты это делаешь, все хорошо. Но я похожа на корабль, внезапно сошедший с правильного курса. А тогда, понимаете, все пропало. Не знаешь, где ты, ты отдана на милость ветра и волн, и ты уже не свободна, что-то тебя подхватило и несет, ты в чем-то увязла… Что за чушь я несу! Все бренди виноват.
Он согласился.
— Отчасти бренди, несомненно. Так где же подхватило вас это нечто?
— О, далеко… все это далеко…
— Что же это было такое, от чего вам пришлось бежать?
— Ничего не было, абсолютно. В том-то и дело. Я ведь счастливая. У меня было все. — Она угрюмо повторила: — Все… О, не то чтобы у меня не было огорчений, потерь, не об этом речь. Я не горюю о прошлом. Не воскрешаю его и не переживаю заново. Не хочу возвращаться и даже идти вперед. Чего я хочу — так это куда-нибудь скрыться. Вот я сижу здесь, пью бренди, но меня нет, я уношусь за пределы гавани, дальше и дальше — в какое-то нереальное место, которого и нет вовсе. Как в детстве летаешь во сне: веса нет, так легко, и тебя уносит.
Глаза опять расширились и расфокусировались. Ллевеллин сидел и смотрел.
Она как будто очнулась.
— Извините.
— Не надо возвращаться, я ухожу. — Он встал. — Можно, я иногда буду приходить сюда и разговаривать с вами? Если не хотите, скажите. Я пойму.
— Нет, я бы хотела, чтобы вы приходили. До свиданья. Я еще посижу. Понимаете, я не всегда могу улизнуть.
Еще раз они разговаривали неделю спустя.
Как только он уселся, она сказала:
— Я рада, что вы не уехали. Боялась, что уедете.
— Пока еще не уезжаю. Рано.
— Куда вы отсюда поедете?
— Не знаю.
— Вы хотите сказать, что ждете распоряжений?
— Что ж, можно и так выразиться.
Она медленно проговорила:
— В прошлый раз мы говорили обо мне. Совсем не говорили о вас. Почему вы приехали на остров? Была причина?
— Пожалуй, причина та же, по которой вы пьете бренди: уйти, в моем случае — от людей.
— От людей вообще или от каких-то конкретно?
— Не вообще от людей. От тех, кто меня знает или знает, кем я был.
— Что-то произошло?
— Да, кое-что произошло.
Она подалась вперед.
— Как у меня? Вы сбились с курса?
Он яростно мотнул головой.
— Нет. То, что случилось со мной, — неотъемлемая часть моей судьбы. Оно имело значение и цель.
— Но вы же сказали про людей…
— Дело в том, что люди не понимают. Жалеют меня, хотят затащить обратно — к тому, что завершено.
Она сдвинула брови.
— Не понимаю…
— У меня была работа. — Он улыбнулся. — Я ее потерял.
— Важная работа?
— Не знаю. — Он задумался. — Пожалуй, да. Но откуда нам знать, что важно, а что нет. Надо привыкнуть не полагаться на собственные оценки. Все относительно.
— Значит, вы бросили работу?
— Нет. — На его лице снова вспыхнула улыбка. — Меня уволили.
— О! Она чуть отшатнулась. — Вы были против?
— Еще бы. Любой был бы на моем месте. Но теперь все позади.
Она нахмурилась, глядя в пустой стакан. Повернула голову, и официант заменил пустой бокал полным.
Сделав два глотка, она сказала:
— Можно вас кое о чем спросить?
— Пожалуйста.
— Как вы думаете, счастье — это очень важно?
Он подумал.
— Трудный вопрос. Боюсь, вы сочтете меня ненормальным, если я скажу: счастье жизненно важно и в то же время не имеет никакого значения.
— Не могли бы вы выразиться яснее?
— Ну, это как секс. Жизненно важная вещь и в то же время ничего не значит. Вы замужем?
Он заметил тонкое золотое кольцо на пальце.
— Я дважды выходила замуж.
— Вы любили мужа?
Он употребил единственное число, и она ответила без колебаний:
— Я любила его больше всего на свете.
— Тогда оглянитесь на вашу совместную жизнь — что прежде всего приходит вам на ум? Как вы в первый раз вместе спали или что-то другое?

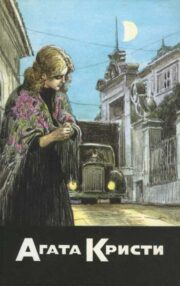

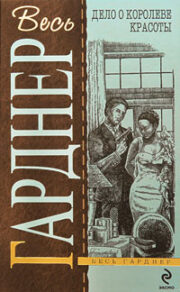

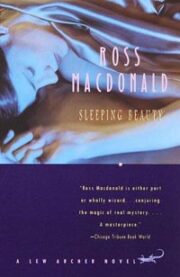
Эта книга Агаты Кристи просто потрясающая! Она показывает нам настоящую силу любви и преданности между матерью и дочерью. Я поражена тем, как Агата Кристи проникает в души героев и показывает их противоречивые чувства и мысли. Она позволяет нам понять, что любовь может быть не только сильной, но и болезненной. Эта книга действительно прекрасна и заставляет нас задуматься о наших отношениях с близкими людьми.