Болдок презрительно хрюкнул:
— Только не Ширли. Она выдержит. Она крепкий орешек.
— Она живет в жутком напряжении.
— Еще бы. Нечего было выходить за него замуж.
— Она же не знала, что его разобьет полиомиелит.
— Думаешь, ее бы это остановило? Как я слышал, романтический воздыхатель заявился сюда разыгрывать сцену любовного прощания.
— Болди, как вы все узнаете?
— Не закрываю глаз. Для чего еще сиделки, как не для того, чтобы разузнавать у них о скандалах местного масштаба.
— Это был Ричард Уайлдинг, путешественник.
— О да, во всех отношениях славный малый. Перед войной по глупости женился. На знаменитой проститутке с Пикадилли[201]. После войны сбежал от нее. Думаю, очень страдает, что свалял такого дурака. Уж эти мне идеалисты!
— Он милый, очень милый.
— Любезничаешь с ним?
— Он тот, за кого Ширли следовало бы выйти замуж.
— О, я было подумал, что ты присмотрела его для себя. Жаль.
— Я никогда не выйду замуж.
— Та-ра-рабумбия! — свирепо отозвался Болдок.
Молодой врач сказал:
— Миссис Глин-Эдвардс, вам нужно уехать. Сменить обстановку, отдохнуть — вот что вам необходимо.
— Но я не могу уехать. — Ширли была возмущена.
— Вы очень истощены и измучены. Предупреждаю вас. — Доктор Грейс заговорил настойчивее: — Если вы не позаботитесь о себе, вы просто свалитесь.
Ширли засмеялась.
— Со мной все будет хорошо.
Врач в сомнении покачал головой.
— Мистер Глин-Эдвардс очень утомительный пациент.
— Если бы он мог хоть немного смирить себя, — сказала Ширли.
— Да, он совсем не способен терпеть.
— Вы думаете, что я неправильно себя веду? Я раздражаю его?
— Миссис Глин-Эдвардс, вы его предохранительный клапан. Вам тяжело, но вы делаете благородное дело, поверьте.
— Спасибо.
— Продолжайте давать ему снотворное. Доза большая, но ночью ему надо отдыхать, раз он так себя изводит. Только не оставляйте лекарства там, где он может до них дотянуться.
Ширли побледнела.
— Вы же не думаете…
— Нет, нет, нет, — поспешно прервал ее врач. — Он не такой человек, чтобы что-то сделать над собой. Временами он грозится, но это просто истерика. Нет, опасность в том, что спросонья человек может забыть, что уже принял дозу, и повторит. Так что будьте осторожны.
— Конечно буду.
Она попрощалась и пошла к Генри.
Генри был сильно не в духе.
— Ну и наговорил! «Все идет удовлетворительно! Пожалуй, пациент несколько взвинчен! Не стоит об этом беспокоиться!»
— О Генри, — Ширли устало опустилась в кресло. — Не мог бы ты быть несколько добрее?
— Добрее к тебе?
— Да. Я так устала, так смертельно устала. Хоть изредка — будь добрым.
— Тебе не на что жаловаться. Не ты превратилась в кучку бесполезных костей. У тебя все хорошо.
— Значит, ты считаешь, что у меня все хорошо?
— Врач уговаривал тебя уехать?
— Он сказал, что я должна сменить обстановку и отдохнуть.
— Конечно же ты поедешь?
— Нет, я не поеду.
— Почему бы это?
— Не хочу оставлять тебя.
— Мне наплевать, уедешь ты или нет. Какой от тебя прок?
— Кажется, никакого, — тусклым голосом сказала Ширли.
Генри завертел головой.
— Где мои снотворные таблетки? Вчера ты мне их так и не дала.
— Дала.
— Не дала. Я проснулся, просил, а нянька наврала, что я их уже принимал.
— Принимал. Ты забыл.
— Ты собираешься вечером пойти в викариат?
— Нет, если ты этого не хочешь, — сказала Ширли.
— Ох, уж лучше ступай! А то все будут говорить, какой я негодяй. Я и няньке сказал, чтобы она шла.
— Я останусь.
— Незачем. Со мной будет Лаура. Вот забавно — я никогда не любил Лауру, но в ней есть что-то такое, что успокаивает, когда болен. Какая-то особая сила.
— Да, она такая. Она вселяет силу. Она лучше, чем я. По-моему, я только злю тебя.
— Иногда ты ужасно раздражаешь.
— Генри…
— Да?
— Ничего.
Перед тем как ехать в викариат, она зашла к Генри, и ей показалось, что он спит. Она наклонилась над ним. На глаза навернулись слезы. Она уже повернулась уходить, и тут он схватил ее за рукав.
— Ширли.
— Да, дорогой?
— Ширли, не надо меня ненавидеть.
— Что ты! Как бы я могла тебя ненавидеть?
Он забормотал:
— Ты такая бледная, худая… Я тебя замучил. Ничего не могу с собой поделать… Я всегда терпеть не мог болезни и боль. На войне я думал, что пусть лучше меня убьют, я не мог понять, как другие переносят ожоги или увечья.
— Я понимаю. Я понимаю…
— Я знаю, я эгоист. Но мне станет лучше — я имею в виду рассудок, а не тело. Мы могли бы с этим ужиться, если ты потерпишь. Только не бросай меня.
— Я тебя никогда не брошу.
— Я люблю тебя, Ширли… Люблю. Всегда любил. Кроме тебя, для меня никого не было — и не будет. Все это время ты была такой доброй, такой терпеливой. Я знаю, что сам я был сущим дьяволом. Скажи, что ты меня прощаешь.
— Мне нечего прощать. Я тебя люблю.
— Знаешь, радоваться жизни можно, даже если ты калека.
— Мы будем радоваться жизни.
— Не знаю как!
Дрожащим голосом Ширли сказала:
— Ну, во-первых, еда.
— И питье, — добавил Генри.
У него на лице возникла слабая тень прежней улыбки.
— Можно заняться высшей математикой.
— Лучше кроссвордами.
Он сказал:
— Завтра я опять буду дьяволом.
— Наверное. Теперь я не возражаю.
— Где мои таблетки?
— Сейчас дам.
Он послушно проглотил таблетки.
— Бедная старушка Мюриэл, — неожиданно сказал он.
— Почему ты о ней вдруг вспомнил?
— Вспомнил, как в первый раз привез тебя к ней. Ты была в желтом полосатом платье. Мне надо было почаще навещать Мюриэл, но она такая зануда. Ненавижу зануд. А теперь и сам стал занудой.
— Нет.
Снизу Лаура позвала: «Ширли!»
Она поцеловала его и сбежала по лестнице, переполненная счастьем. И торжеством.
Лаура сказала ей, что няня уже пошла.
— О, я опоздала? Бегу.
На ходу она обернулась и окликнула Лауру.
— Я дала Генри снотворное.
Но Лаура уже зашла в дом и закрывала за собой дверь.
Часть третья
Ллевеллин — 1956
Глава 1
Ллевеллин Нокс распахнул ставни гостиничных окон и впустил благоуханный ночной воздух. Перед ним рассыпались мерцающие огоньки города, за ними сияли огни гавани.
Впервые за несколько недель Ллевеллин ощутил мир и покой. Здесь на острове он сможет сделать остановку, осмыслить себя и свое будущее. В общих чертах будущее было ясно, но детали не прорисовывались. Он прошел через муку, опустошенность, бессилие. Скоро, очень скоро, он сможет начать новую жизнь. Простую, нетребовательную жизнь, как у всех, — но за одним исключением: он начнет ее в сорок лет.
Он вернулся в комнату, скромно обставленную, но чистую. Умылся, распаковал невеликий багаж и вышел из спальни. Спустился на два лестничных пролета в вестибюль гостиницы. Клерк за стойкой что-то писал; он поднял на Ллевеллина глаза вежливо, но без особого интереса или любопытства и снова ушел в работу.
Ллевеллин толкнул вращающуюся дверь и вышел на улицу. Воздух был теплый и влажный, насыщенный цветочными ароматами.
Ничего общего с застойным экзотическим воздухом тропиков. Было тепло ровно настолько, чтобы снять напряжение. Подстегивающий темп цивилизации остался позади. Остров словно отодвинут в прошлый век, когда люди занимались своими делами не торопясь, обдумывали все без спешки и стрессов, не изменяя намеченной цели. Были у них и нищета, и телесные болезни, и боль, но не было напряжения нервов, неистовой гонки, страха перед завтрашним днем, который непрерывно подстегивает людей цивилизованного мира.
Твердые лица деловых женщин, безжалостные лица матерей, гордых своими чадами, серые, измученные лица бизнесменов, занятых непрекращающейся борьбой, дабы не пойти ко дну вместе со всем, что им принадлежит, беспокойные усталые лица в толпе, где все борются за лучшую жизнь завтра или хотя бы за сохранение той, какая есть, — ничего этого не было во встречаемых им людях. Большинство прохожих задерживали на нем взгляд, отмечали, что он иностранец, и шли дальше, занятые собственной жизнью. Шли не спеша — наверное, просто вышли подышать свежим воздухом. Даже те, у кого была цель, не проявляли нетерпения: что не сделаешь сегодня — сделаешь завтра; друзья подождут чуть подольше и не рассердятся.
«Серьезные, вежливые люди, — думал Ллевеллин, — они редко улыбаются, но не потому, что им ipycrao, а потому, что улыбка не является для них инструментом светского общения, они улыбаются, когда им смешно».
Женщина с ребенком на руках подошла к нему и попросила милостыни, но автоматически, без эмоций. Слов он не понял, но протянутая рука и меланхолическая интонация создавали знакомый образ. Он положил ей на ладонь мелкую монету, она так же автоматически поблагодарила и ушла. Ребенок спал, прислонившись к ее плечу. Он был вполне упитанный, а ее лицо, хоть и усталое, не было ни измученным, ни истощенным. Просто такая у нее работа, такое ремесло Она выполняла ее механически, вежливо и достаточно успешно, чтобы обеспечить себе и ребенку пропитание и кров.

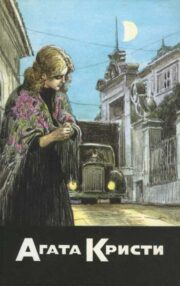
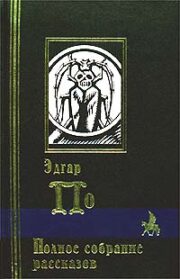
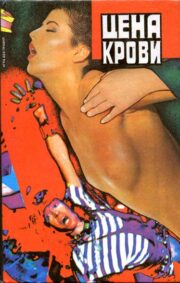
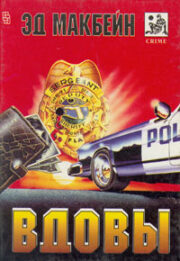
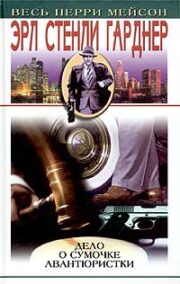
Эта книга Агаты Кристи просто потрясающая! Она показывает нам настоящую силу любви и преданности между матерью и дочерью. Я поражена тем, как Агата Кристи проникает в души героев и показывает их противоречивые чувства и мысли. Она позволяет нам понять, что любовь может быть не только сильной, но и болезненной. Эта книга действительно прекрасна и заставляет нас задуматься о наших отношениях с близкими людьми.