Сейчас Ширли приехала домой насовсем, и поначалу Лауре казалось, что все идет, как всегда. Каждый день они обменивались впечатлениями. Ширли беззаботно рассказывала о Робине Гранте, об Эдварде Вестбери; для нее — искренней, увлекающейся натуры, — было естественным, — или так казалось со стороны — делиться всем, что с ней произошло.
Но вчера, вернувшись с тенниса, она односложно отвечала на вопросы Лауры. Интересно почему. Ширли, конечно, взрослеет. У нее появляется своя жизнь, сдои мысли. Так и должно быть. Что сейчас от Лауры требуется, так это понять, как правильно себя с ней вести. Лаура, вздохнув, посмотрела на часы и решила сходить к мистеру Болдоку.
Глава 2
Болдок возился в саду, когда пришла Лаура. Хрюкнув, он тут же спросил:
— Как тебе нравятся мои бегонии?[184] Хороши?
Мистер Болдок был неважным садовником, но необычайно гордился, когда у него что-то получалось, и полностью игнорировал неудачи. Друзья тоже не должны были их замечать. Лаура послушно оглядела чахлые бегонии и сказала, что они очень милые.
— Милые? Да они великолепны! — Болдок, который уже совсем состарился и стал гораздо толще, чем восемнадцать лет назад, со стоном нагнулся и выдернул несколько сорняков.
— Все из-за сырого лета, — прокряхтел он. — Только прополешь грядку — опять вылезает. Сказать не решаюсь, что я думаю о вьюнках! Говорите что хотите, но я считаю, что их создал сам дьявол! — Он отдышался и пыхтя спросил: — Ну, юная Лаура, что тебя привело? Какая беда? Рассказывай.
— Когда я встревожена, я всегда прихожу к вам. С шести лет.
— Ты была странным ребенком. Худенькое личико и огромные глаза.
— Я хотела бы знать, правильно ли я поступаю.
— Я бы на твоем месте не беспокоился. Карррр! Вылезай, презренное чудовище! (Это относилось к вьюнку.) Нет, не беспокоился бы. Некоторые всегда знают, что хорошо, а что плохо, а другие понятия не имеют. Это как слух в музыке.
— Я имею в виду не в моральном плане — хорошо или плохо, а насколько это умно.
— Ну, тогда другое дело. В целом человек делает больше глупых вещей, чем умных. В чем проблема?
— Это насчет Ширли.
— Естественно. Ни о чем другом ты и не думаешь.
— Я хочу, чтобы она поехала в Лондон учиться, на секретаря.
— Мне это кажется выдающейся глупостью, — сказал Болдок. — Ширли милое дитя, но из нее ни за что не получится компетентная секретарша.
— Должна же она что-то делать.
— Да, теперь так говорят.
— И я хочу, чтобы она общалась с людьми.
— Проклятье, дьявол и все напасти на эту крапиву. — Болдок потряс обожженной рукой. — С людьми? С какими это людьми? С толпами? С работодателями? С другими девицами? С молодыми людьми?
— Я как раз имею в виду — с молодыми людьми.
Болдок хохотнул.
— Она и здесь неплохо устроилась. Этот маменькин сынок Робин смотрит на нее как овечка, молодой Питер из-за этого ужасно переживает, и даже Эдвард Вестбери начал мазать бриллиантином[185] то, что у него осталось от волос. Я унюхал его в церкви прошлым воскресеньем. Думаю — для кого это он? А как вышли из церкви, смотрю — он возле нее крутится, как застенчивая дворняжка.
— По-моему, никто из них ей не нравится.
— С чего бы? Лаура, дай ей время, она еще молода. Послушай, ты действительно хочешь отослать ее в Лондон или поедешь с ней?
— Не поеду, в этом весь смысл.
Болдок выпрямился.
— Значит, в этом весь смысл? — Он смотрел с любопытством. — Что у тебя на уме, Лаура?
Лаура разглядывала землю под ногами.
— Как вы только что сказали, Ширли — единственное, что имеет для меня значение. Я так люблю ее, что боюсь ей навредить. Или привязать к себе слишком тесно.
Голос у Болдока был необычно нежным, когда он заговорил:
— Она на десять лет младше тебя, и ты для нее скорее мать, чем сестра.
— Да, я так себя и чувствую.
— И будучи умной девушкой, сознаешь, что материнская любовь — собственническая?
— Да, и я этого не хочу. Я хочу, чтобы Ширли была свободна и… ну, свободна.
— И на основании этого выталкиваешь ее из гнезда? Посылаешь в мир, чтобы она смогла стоять на собственных ногах?
— Да. Только я не уверена, разумно ли я поступаю.
Болдок взволнованно потер нос.
— Уж эти женщины! — воскликнул он. — Беда с вами, вы столько хлопочете! Кто может знать, что разумно, а что нет? Если юная Ширли отправится в Лондон, подцепит египетского студента и принесет в Белбери шоколадного ребенка, ты скажешь, что это твоя вина, хотя вина полностью Ширли и отчасти — египетского студента. А если она выучится, поступит на работу и выйдет замуж за своего босса, ты скажешь, что ты была права. И то и другое — чушь! Ты не можешь устроить жизнь за другого. Есть у Ширли разум или нет — покажет время. Если ты считаешь, что затея с Лондоном хороша — действуй, но не относись к ней слишком серьезно. В этом твоя беда, Лаура: ты слишком всерьез воспринимаешь жизнь. Это беда всех женщин.
— А вы — не всерьез?
— Я всерьез отношусь к вьюнку. — Болдок свирепо уставился на кучку сорняка на дорожке. — Серьезное дело — тля. И мой желудок, потому что иначе он задаст мне жару. Но у меня никогда и в мыслях не было серьезно относиться к жизни других людей. Для этого я их слишком уважаю.
— Вы не понимаете. Мне нестерпима мысль, что Ширли запутается в жизни и будет несчастна.
— Чепуха, — взорвался Болдок. — Что из того, что Ширли будет несчастна? Такова участь большинства людей. Тебе дано быть несчастным в этом мире, как дано все остальное. Имей мужество пройти эту жизнь — мужество и веселое сердце.
Он бросил на нее острый взгляд.
— А как насчет тебя, Лаура?
— Меня? — удивилась она.
— Да. Положим, ты — несчастна. Ты собираешься это терпеть?
Лаура улыбнулась.
— Я об этом не думала.
— Почему? Подумай о себе. Отсутствие эгоизма в женщине может быть столь же губительно, как тяжелая рука для кондитера. Чего ты хочешь от жизни? Тебе двадцать восемь лет, самое время выходить замуж. Почему ты ни капельки не охотишься на мужчин?
— Что за ерунда, Болди?
— Чертополох и бузина! — взревел Болдок. — Ты ведь женщина! Симпатичная, абсолютно нормальная женщина. Или ненормальная? Как ты реагируешь, когда мужчина пытается тебя поцеловать?
— Они не часто пытаются, — сказала Лаура.
— А почему, черт возьми? Потому что ты для этого ничего не делаешь. — Он погрозил ей пальцем. — Ты все время думаешь не о том. Вот ты стоишь — в аккуратном жакетике с юбкой, такая милая и скромная, что тебя похвалила бы моя мама! Почему ты не красишь губы под цвет почтового ящика[186], не покрываешь лаком ногти им под цвет?
Лаура вытаращила глаза.
— Вы же говорили, что терпеть не можете красные ногти и помаду!
— Конечно, я их терпеть не могу. Но мне семьдесят девять. Для меня они — символ, знак, что ты вышла на ярмарку жизни и готова играть в игры Природы. Вроде призыва к самцу — вот что это такое. Послушай, Лаура, ты не предмет всеобщего желания, ты не размахиваешь знаменем собственной женственности с таким видом, будто это у тебя само получается, как делают некоторые женщины. Если ты ничего этого не делаешь, то может клюнуть на тебя только такой мужчина, у которого хватит ума понять, что ты — его женщина. Но это само собой не случится. Тебе придется пошевелиться. Придется вспомнить, что ты женщина, сыграть роль женщины и поискать своего мужчину.
— Дорогой мой Болди, я обожаю ваши лекции, но я всегда была безнадежно заурядной.
— Значит, ты хочешь остаться старой девой?
Лаура слегка покраснела.
— Нет, конечно, просто я думаю, что вряд ли выйду замуж.
— Пораженчество! — взревел Болдок.
— Нет, что вы. Просто мне кажется невероятным, чтобы кто-то мог в меня влюбиться.
— Мужчины могут влюбиться во что попало, — невежливо сказал Болдок. — В женщину с заячьей губой, с прыщами, выступающей челюстью, тупой башкой и просто в кретинку! Половина твоих знакомых замужних дам таковы! Нет, юная Лаура, ты не хочешь утруждать себя! Ты хочешь любить — а не быть любимой, — и не скажу чтобы ты в этом не преуспела. Быть любимой — это тяжелая ноша!
— Вы думаете, я слишком люблю Ширли? Что у меня чувство собственности на нее?
— Нет, — медленно сказал Болдок. — В этом я тебя оправдываю. Ты не собственница.
— Но тогда — разве можно любить слишком сильно?
— Да! — рыкнул он. — В любом деле бывает свое слишком. Слишком много есть, слишком много пить, слишком много любить…
Он процитировал:
— Есть тысяча обличий у любви,
И все они несут любимым горе[187].
Набей этим трубку и кури, юная Лаура.
Лаура вернулась домой, улыбаясь про себя. Как только она вошла, из задней комнаты показалась Этель и заговорщическим шепотом произнесла:
— Тут вас ждет джентльмен — мистер Глин-Эдвардс, совсем юный джентльмен. Я провела его в гостиную. Велела подождать. Он ничего — я хочу сказать, не бродячий торговец и не попрошайка.
Лаура слегка улыбнулась; но суждению Этель она доверяла.
Глин-Эдвардс? Она такого не помнила. Наверное, кто-то из летчиков, которые здесь жили во время войны.
Она прошла в гостиную.
Ей навстречу стремительно поднялся совершенно незнакомый молодой человек.
С годами это впечатление от Генри не изменилось. Для нее он всегда был незнакомцем. Всегда оставался незнакомцем.

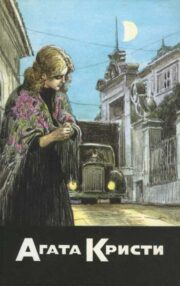

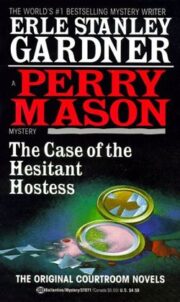

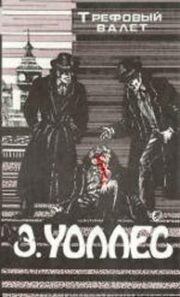
Эта книга Агаты Кристи просто потрясающая! Она показывает нам настоящую силу любви и преданности между матерью и дочерью. Я поражена тем, как Агата Кристи проникает в души героев и показывает их противоречивые чувства и мысли. Она позволяет нам понять, что любовь может быть не только сильной, но и болезненной. Эта книга действительно прекрасна и заставляет нас задуматься о наших отношениях с близкими людьми.