— Принцесса, заточенная в разрушенном замке? — высказала предположение Тереза.
— Вот именно! Она должна была приехать на молочно-белом коне, а не в стареньком «даймлере». Интересно все-таки, — добавил я, помолчав, — о чем она думает?
Во время этого официального визита Изабелла говорила очень мало. Она сидела выпрямившись, с милой, чуть рассеянной улыбкой. Вежливо отвечала, если к ней обращались, или просто сидела молча. Впрочем, ей не было надобности поддерживать разговор, так как старые леди почти полностью захватили инициативу. Мне хотелось знать, явилась ли она к нам против своей воли и теперь скучала — или ее заинтересовало появление в Сент-Лу чего-то нового. Жизнь Изабеллы представлялась мне довольно однообразной.
— Ее что, совсем не призывали на военную службу и она все время просидела дома? — спросил я Терезу.
— Изабелле только девятнадцать. После окончания школы она служила в системе Красного Креста — водила машину.
— Школы? — Я был поражен. — Ты хочешь сказать, что она училась в школе? В пансионе?!
— Да, в Сент-Ниниан.
Это удивило меня еще больше, потому что пансион Сент-Ниниан дорогой и дающий по-настоящему современное образование, — а не какая-то там школа с совместным обучением или какими-нибудь причудами. И уж конечно, не модный пансион благородных девиц.
— Тебя это удивило? — спросила Тереза.
— Да, представь себе, удивило, — медленно произнес я. — Эта девушка производит такое впечатление, будто она никогда не покидала дом и воспитывалась в какой-то средневековой обстановке, не имеющей с двадцатым веком никаких точек соприкосновения.
Тереза задумчиво кивнула.
— Да, я понимаю.
— Что лишний раз подтверждает, — вмешался в разговор Роберт, — что главное — это среда. Ну и конечно, наследственность.
— Все-таки мне очень интересно, о чем она думает.
— Может быть, она и не думает вовсе, — заметила Тереза.
Меня рассмешило подобное предположение, но я продолжал размышлять об этой странной девушке.
Как раз в этот период ко мне пришло полное, почти убийственное осознание моего положения. До аварии я всегда был физически здоровым, спортивным человеком, и меня раздражало все, связанное с болезнями и уродством. Я, разумеется, был способен на жалость, но к ней всегда примешивалось какое-то брезгливое чувство.
И вот теперь я сам стал объектом жалости и отвращения. Прикованный к койке инвалид, с изуродованными ногами, прикрытыми пледом.
Внутренне сжавшись, я всей кожей, всеми чувствами ожидал реакции окружающих на мое состояние. Какой бы ни была эта реакция, она всегда причиняла мне боль. Добрый, сострадательный взгляд был для меня ужасен, но не менее ужасным было и тактичное притворство, когда посетитель старался показать, что все нормально и он ничего необычного не заметил. Если бы не железная воля Терезы, я закрылся бы в своей комнате и никого не видел. Противостоять Терезе, если она приняла определенное решение, было нелегко. Она твердо решила, что я не должен стать затворником, и сумела внушить мне, даже не прибегая к излишним словам, что, закрывшись в своей комнате и превратив себя в некую таинственную персону, я просто-напросто привлеку к себе внимание и это будет саморекламой. Я понимал, что она на самом деле затеяла и зачем, но тем не менее подчинился. С мрачной решимостью я вознамерился доказать Терезе, что смогу все вынести, чего бы мне это ни стоило! Сострадание, сверхдоброту в голосе; старание добросовестно избегать в разговоре всякого упоминания об авариях, несчастных случаях и болезнях; попытки делать вид, что я такой, как другие люди, — все я переносил с каменным лицом.
Поведение престарелых леди из замка не вызывало у меня особого замешательства. Леди Сент-Лу избрала тактику «не замечать» моего несчастья. Леди Трессилиан, женщина с мягким материнским сердцем, старалась не выказать переполняющего ее сострадания, довольно настойчиво переводила разговор на недавно вышедшие издания, интересовалась, не делал ли я обзоров или рецензий. А участие ко мне миссис Бигэм Чартерис, дамы более прямолинейной, проявлялось лишь в том, что она слишком явно останавливала себя, когда речь заходила об активных и кровавых видах спорта (бедняжка не могла себе позволить даже упомянуть охоту или гончих).
Но Изабелла меня удивила: девушка вела себя совершенно естественно. Она посмотрела на меня, явно торопясь отвести взгляд. Посмотрела так, будто ее сознание просто зарегистрировало меня наряду с другими людьми, находившимися в комнате, и стоявшей там мебелью: «один мужчина, возраст — за тридцать, калека» — словно я — один из предметов в описи вещей, не имеющих к ней никакого отношения.
Зафиксировав меня таким образом, покончила со мной, взгляд Изабеллы перешел на рояль, а потом на тайскую фигуру лошади[33], принадлежавшую Роберту и Терезе. Лошадка стояла на отдельном столе и, судя по всему, вызвала у девушки определенный интерес. Она спросила, что это такое. Я объяснил.
— Вам нравится?
Изабелла ответила не сразу.
— Да, — наконец произнесла она веско, придав односложному слову некую особую значительность.
«Может, она слабоумная?» — подумал я с удивлением и спросил, нравятся ли ей лошади. Изабелла ответила, что это первая, которую ей пришлось увидеть.
— Я имею в виду настоящих лошадей.
— О, понимаю. Да, нравятся, но я не могу позволить себе охоту.
— Вам хотелось бы выезжать на охоту?
— Пожалуй, нет. Здесь не очень много мест, подходящих для охоты.
На мой вопрос, ходит ли она в море на яхте под парусом, Изабелла ответила утвердительно. В это время леди Трессилиан заговорила со мной о книгах, и девушка погрузилась в молчание. Она, как я заметил, в высшей степени владела искусством пребывать в покое. Умела сидеть совершенно спокойно — не курила, не качая ногой, закидывая ее на другую, не шевелила суетливо пальцами, ничего не вертела в руках, не поправляла волосы. Просто сидела совершенно спокойно, выпрямившись в высоком кресле с подголовником и сложив на коленях длинные тонкие руки. Она была так же неподвижна, как фигура тайской лошади; одна в кресле, другая на своем столе. Мне казалось, у них есть что-то общее: обе в высшей степени декоративны, статичны и принадлежат к давнему прошлому…
Я посмеялся, когда Тереза предположила, что Изабелла вообще не думает, но позднее пришел к мысли, что в этом, может быть, есть доля правды. Животные не думают, их мозг пассивен до тех пор, пока не появится опасность и не возникнет необходимость действовать. Мышление (в абстрактном смысле) является на самом деле процессом искусственным, научились мы ему не без труда. Нас беспокоит то, что было вчера, что делать сегодня и что произойдет завтра. Однако ни наше вчера, ни сегодня, ни завтра не зависят от нас. Они были и будут помимо нашей воли.
Предсказания Терезы относительно нашей жизни в Сент-Лу оказались необыкновенно точными. Почти сразу после приезда мы по уши погрузились в политику. Полнорт-хаус был большой и бестолково спланированный. Мисс Эми Треджеллис, чьи доходы значительно пострадали от новых налогов, пришлось пожертвовать одним крылом дома. И даже устроить в нем кухню для удобства эвакуированных, которые прибывали из районов, подвергавшихся бомбардировкам. Однако эвакуированные, приехавшие из Лондона в середине зимы, оказались не в силах выдержать множество неудобств Полнорт-хауса. Попади они в сам Сент-Лу с его магазинами и бунгало — другое дело! Но в миле от города… кривые улочки. «Грязища! Даже не поверите! И света нет — и того и гляди, кто выскочит из кустов, к-а-ак накинется! И овощи грязные, в земле, с огорода — всё овощи да овощи! И молоко прямо из-под коровы, иногда даже парное — вот гадость-то! Нет чтоб сгущенное, в банке: удобно и всегда под рукой!» Для эвакуированных — миссис Прайс и миссис Харди с их выводками ребятишек. Это оказалось чересчур. Вскоре они съехали тайком на рассвете, увозя своих отпрысков назад, к опасностям Лондона. Это были славные женщины. Все убрали, выскребли за собой и оставили на столе записку:
«Благодарствуйте, мисс, за вашу доброту. И мы, конечно, знаем, вы все сделали, что могли, да только жить в деревне просто невмоготу. И дети должны по грязи ходить в школу. Но все равно — благодарствуйте. Я надеюсь, что мы все оставили в порядке».
Квартирмейстер уже не пытался поселить кого-нибудь в Полнортхаусе. Он стал мудрее. Со временем мисс Треджеллис сдала эту часть дома капитану Карслейку, организатору предвыборной кампании консервативной партии, который в свое время служил уполномоченным по гражданской обороне в войсках ополченцев.
Роберт и Тереза охотно согласились и дальше сдавать Карлслейкам отделенную часть дома, — впрочем, вряд ли у них была возможность им отказать. А следовательно, Полнорт-хаус превратился в эпицентр предвыборной активности, наряду со штаб-квартирой тори на Хай-стрит[34] в Сент-Лу.
Терезу и в самом деле сразу же затянул этот водоворот: она водила машины, распространяла брошюры и листовки, беседовала с жителями. Политическая обстановка в Сент-Лу не была стабильной. Престижный приморский курорт, потеснивший рыбацкую деревушку, издавна голосовал за консерваторов. Жители прилегающих сельскохозяйственных районов тоже все до одного были консерваторами. Но за последние пятнадцать лет Сент-Лу изменился. В летний период его наводняли туристы, селившиеся в небольших пансионах. Появилась колония художников, чьи бунгало рассыпались у подножия скал. Публика серьезная, артистическая, образованная в политическом отношении, если не красная, то, во всяком случае, розовая[35].
В 1943 году прошли дополнительные выборы, так как сэр Джордж Борроудэйл в возрасте шестидесяти девяти лет, после повторного инсульта, вышел в отставку. И вот тут-то, к ужасу всех старожилов, впервые в истории этих мест членом парламента был избран лейборист.

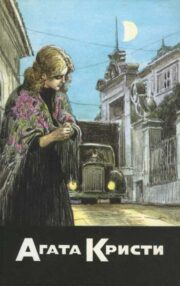



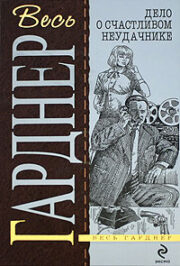
Эта книга Агаты Кристи просто потрясающая! Она показывает нам настоящую силу любви и преданности между матерью и дочерью. Я поражена тем, как Агата Кристи проникает в души героев и показывает их противоречивые чувства и мысли. Она позволяет нам понять, что любовь может быть не только сильной, но и болезненной. Эта книга действительно прекрасна и заставляет нас задуматься о наших отношениях с близкими людьми.