Как ни странно, человеком, высказавшим ту же точку зрения, что и Гэбриэл, была вдовствующая леди Сент-Лу. Она заговорила на эту тему лишь однажды, в гостиной Полнорт-хауса, когда были только мы с Терезой.
— В том, что произошло, есть и наша доля вины, — сказала она, — и мы не можем ее с себя снять. Нам было известно, что собой представляет майор Гэбриэл. Мы предложили в качестве кандидата чужого нам человека, у которого нет ни истинных убеждений, ни традиций, ни элементарной честности. Мы знали, что этот человек — авантюрист, но приняли его, потому что у него были определенные качества, которые нравятся массам, — блестящее военное прошлое и безусловное обаяние. Мы были готовы к тому, чтобы он нас использовал, потому что сами собирались использовать его. И оправдывали себя тем, что нужно идти в ногу со временем. Однако если и есть хоть что-то реальное, хоть какой-то смысл в традициях консерваторов, то партия обязана придерживаться этих традиций. Наши интересы должен представлять человек пусть не блестящий, но искренний. Человек, чьи корни — в этой стране. Человек, готовый взять на себя ответственность за тех, кто от него зависит, не стыдящийся своей принадлежности к высшему классу, — ибо он принимает не только привилегии, но и обязанности этого класса.
Это был голос уходящего regime[100]. Я не любил его, но уважал. Время рождало новые идеи, новый образ жизни, сметая прочь обломки старины, но леди Сент-Лу как образец всего лучшего, что было в прежней жизни, — стояла нерушимо. Это — ее место, и она не сойдет с него до конца.
Об Изабелле она не говорила вовсе. Сердце леди Сент-Лу было ранено слишком глубоко. По бескомпромиссному убеждению старой леди, Изабелла предала свой собственный класс. Старая педантка могла оправдать Джона Гэбриэла — он низкого происхождения и законов для него не существует. Для Изабеллы оправданий не было: она предала крепость изнутри.
Зато об Изабелле постоянно говорила леди Трессилиан. Она обсуждала случившееся со мной, потому что не могла ни с кем поговорить, а я как инвалид, видимо, не шел в счет. Полная материнского сострадания к моей беспомощности, она считала чуть ли не своим долгом откровенничать со мной, как с сыном.
Эделейд, по словам миссис Трессилиан, была неприступна; Мод сразу же обрывала разговор и уходила с собаками из дома, а большому и доброму сердцу леди Трессилиан в одиночку не снести такую тяжесть. Она не могла поговорить с Терезой, так как чувствовала, что это непорядочно по отношению к своим. Но в разговорах со мной леди Трессилиан не испытывала неловкости. Она знала, что я любил Изабеллу.
Леди Трессилиан любила Изабеллу горячо и нежно, не могла не думать о ней и по-прежнему была ошеломлена и озадачена ее поступком.
— Так не похоже на Изабеллу… так не похоже! — повторяла леди Трессилиан. — Этот человек, должно быть, околдовал ее. Он очень опасен! Я всегда так думала… Изабелла была такой счастливой… Абсолютно счастливой. Она и Руперт, казалось, были созданы друг для друга… Я не могу понять! Ведь они были счастливы — были! Вы тоже так думаете, не правда ли?
Осторожно подбирая выражения, я подтвердил ее слова, хотя мне очень хотелось добавить, что порой одного только счастья бывает недостаточно. Но леди Трессилиан вряд ли могла бы это понять.
— Мне все кажется, что этот ужасный человек каким-то образом загипнотизировал ее и увлек за собой… Но Эдди говорит: «Нет!» Она говорит: «Изабелла никогда ничего не сделает не по своей воле». Я, право, ничего не понимаю!
Я подумал, что тут леди Сент-Лу, пожалуй, права!
— Вы полагаете, они поженились? — спросила вдруг леди Трессилиан. — Как по-вашему, где они?
Я в свою очередь спросил, не было ли вестей от Изабеллы.
— Нет. Ничего. Ничего, кроме того письма, которое она оставила. Оно было адресовано Эдди. Изабелла писала, что не надеется на ее прощение и что это, вероятно, будет справедливо. И еще она написала: «Вряд ли стоит говорить, что я сожалею о боли, которую вам причиняю. Если бы мне действительно было жаль, я бы этого не сделала. Думаю, Руперт поймет, а может быть, и нет. Я всегда буду любить вас, даже если никогда больше не увижу».
Леди Трессилиан подняла на меня глаза, полные слез.
— Бедный мальчик милый Руперт! Мы все так его полюбили!
— Наверное, он тяжело это перенес?
Я не видел Руперта Сент-Лу со дня бегства Изабеллы. Он уехал из Сент-Лу на следующий день. Я не знаю, где он был и что делал. Неделю спустя он вернулся в Бирму в свою часть.
— Он был так добр к нам, — продолжала леди Трессилиан. — Но Руперт не хотел говорить о случившемся. Никто не хочет об этом говорить. — Она вздохнула и со слезами на глазах покачала головой. — Но я не могу не думать о том, где они и что с ними. Поженились или нет? Где будут жить?
Мысли леди Трессилиан были чисто женскими. Я понял, что в ее мечтах уже начала рисоваться картина семейной жизни Изабеллы: свадьба, дом, дети. Леди Трессилиан легко простила Изабеллу. Она очень любила ее. То, что сделала Изабелла, было ужасно, позорно; она подвела свою семью — но в то же время это так романтично! А леди Трессилиан была в высшей степени романтична.
Как я уже говорил, мои воспоминания о последних двух годах в Сент-Лу довольно смутные. Прошли дополнительные выборы, на которых с большим преимуществом снова победил мистер Уилбрэхем. Я даже не помню, кто был кандидатом от консерваторов. Кажется, какой-то местный джентльмен с безупречной репутацией, но не пользующийся симпатией. Политика без Джона Гэбриэла мне стала не интересна. Я занялся собственным здоровьем, опять оказался в больнице, где мне сделали серию операций, после которых мое состояние если и не стало хуже, то, во всяком случае, заметно не улучшилось. Тереза и Роберт по-прежнему жили в Полнорт-хаусе. Три старые леди переехали из замка в небольшой викторианский дом с прекрасным садом. Замок был сдан в аренду кому-то с севера Англии. Спустя восемнадцать месяцев Руперт Сент-Лу вернулся в Англию и женился на молодой богатой американке. Тереза писала мне, что у молодых большие планы полной реконструкции замка, которая начнется, как только будут оформлены соответствующие документы. Однако мысль о реконструкции замка Сент-Лу мне претила, непонятно почему.
Где были Гэбриэл и Изабелла и чем был занят Гэбриэл, не знал никто.
В 1947 году в Лондоне у Роберта успешно прошла выставка его корнуоллских картин.
К этому времени хирургия достигла больших успехов. В разных странах Европы хирурги делали замечательные операции, даже в таком трудном случае, как мой. Одно из немногих положительных явлений, которые приносит война, — это гигантский скачок вперед в области хирургии. Мой лондонский доктор с большим энтузиазмом говорил о работе одного еврея-хирурга в Словакии. Участвуя в подпольном движении во время войны, этот врач проводил отчаянные эксперименты, стараясь спасти жизнь своих пациентов, и достиг поистине замечательных результатов. По словам моего лечащего врача, словацкий доктор и в моем случае может решиться на такую операцию, за которую не взялся бы ни один английский хирург.
И вот осенью 1947 года я отправился в Словакию, в Заград, на консультацию к доктору Красвичу.
Нет надобности подробно останавливаться на моей собственной истории. Достаточно сказать, что доктор Красвич, показавшийся мне очень опытным и знающим хирургом, выразил надежду, что операция значительно улучшит мое состояние. Возможно, я поднимусь наконец с постели и даже смогу передвигаться самостоятельно на костылях. Было решено, что я немедленно поступаю в его клинику.
Наши общие с ним надежды оправдались. Через шесть месяцев я, как он и предсказывал, мог уже передвигаться с помощью костылей. Я не в силах описать, что это означало для меня, какой восхитительной казалась теперь жизнь!
Я остался в Заграде, так как несколько раз в неделю приходил на массаж.
Однажды теплым летним вечером я медленно и с трудом передвигался по главной улице Заграда. В небольшом уличном кафе я сел за столик и заказал пиво. Оглядев занятые столики, я увидел Джона Гэбриэла.
Это был шок. Я уже не думал о нем. Я не мог вообразить, что он находится здесь, в этой стране. Но еще большим шоком было то, как он выглядел.
Гэбриэл опустился. Его лицо, и всегда-то грубоватое, теперь огрубело почти до неузнаваемости, обрюзгло и казалось нездоровым, глаза воспаленные. Я понял, что он слегка пьян.
Он тоже увидел меня, встал и, пошатываясь, подошел к моему столику.
— Ну и ну! Подумать только! — воскликнул он. — Вот уж кого не ожидал увидеть!
С каким удовольствием я двинул бы Джону Гэбриэлу кулаком по физиономии! Но я, разумеется, был далеко не в бойцовской форме и, кроме того, мне хотелось хоть что-нибудь узнать об Изабелле. Я пригласил его сесть за мой столик.
— Спасибо, Норрис. Я сяду. Как поживают Сент-Лу, пряничный замок и старые кошки?
— Я уже давно там не был, знаю только, что замок сдан в аренду и все три леди из него выехали, — ответил я.
— Значит, старой ведьме пришлось проглотить горькую пилюлю! Это здорово!
— Напротив, по-моему, она была рада покинуть замок, — возразил я. — Руперт Сент-Лу помолвлен и собирается жениться.
— Собственно говоря, для всех все обернулось к лучшему.
Я сдержался и ничего не сказал.
Знакомая ухмылка искривила рот Гэбриэла.
— Полно, Норрис! Нечего сидеть так, будто кочергу проглотили. Спросите про нее! Ведь вы это хотите знать, верно?
Гэбриэл всегда переносил боевые действия на территорию противника. Мне пришлось признать себя побежденным.
— Как поживает Изабелла? — спросил я.
— С ней все в порядке. Я не поступил с ней, как полагается типичному совратителю, — соблазнил и бросил в канаве.
Мне становилось все труднее сдерживаться, чтобы не ударить Гэбриэла. Он всегда был агрессивен, теперь же, когда заметно опустился, сделался еще грубее и агрессивнее.

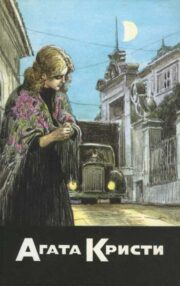


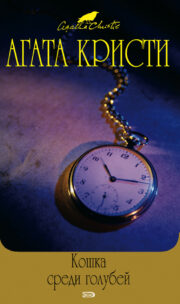
![Алмаз раздора. До и после Шерлока Холмса [сборник]](https://detectiveworld.ru/wp-content/uploads/almaz-razdora-do-i-posle-sherloka-holmsa-sbornik-180x270.jpg)
Эта книга Агаты Кристи просто потрясающая! Она показывает нам настоящую силу любви и преданности между матерью и дочерью. Я поражена тем, как Агата Кристи проникает в души героев и показывает их противоречивые чувства и мысли. Она позволяет нам понять, что любовь может быть не только сильной, но и болезненной. Эта книга действительно прекрасна и заставляет нас задуматься о наших отношениях с близкими людьми.