— Я не сержусь.
«Говори это почаще! — кричал внутренний голос. — Повторяй еще и еще! Я никогда такого не слышала!»
— Мы будем ужинать здесь, в моей комнате. Я подумал, что вам это больше понравится. Но, может, я ошибся?
— Я думаю, что так будет лучше всего.
— Надеюсь, ужин будет прекрасным. Но все-таки побаиваюсь. Мне до сих пор не приходилось задумываться о еде. Я хотел бы, чтобы вам понравилось.
Она улыбнулась, села за стол, и он позвонил официанту.
Ей казалось, что все это ей снится. Потому что перед ней сидел не тот человек, который утром приходил в Фонд. Он стал моложе, энергичнее, увереннее в себе и ужасно старался угодить. Она вдруг подумала: «Таким он был в двадцать лет. Он многое упустил и теперь вернулся назад, чтобы найти».
Ее охватила грусть, даже отчаяние. Это неправда. Они разыгрывают представление — как это могло бы быть — юный Ллевеллин и юная Лаура. Смешно и трогательно — и вне времени — и все же непонятно — сладостно.
Они приступили к ужину. Еда была посредственная, но оба этого не замечали — оба они ощупью пробирались в Страну Нежности — и разговаривали, смеялись, не придавая значения тому, что говорят.
После того как официант принес кофе и вышел, Лаура сказала:
— Вы знаете обо мне довольно много, а я не знаю о вас ничего. Расскажите.
Он рассказал — о юности, о родителях, о своем воспитании.
— Они живы?
— Отец умер десять лет назад, мать — в прошлом году.
— Они… она очень гордилась вами?
— Мне кажется, отцу не нравилось то, какую форму приняла моя миссия. Его отталкивала экзальтация в религии, но он признавал, что другого пути у меня нет. Мать понимала лучше, она гордилась мной — моей мирской славой, как любая мать на ее месте, но она грустила.
— Грустила?
— Из-за того, что я многого лишился — простого, человеческого. И это отдалило меня от других людей — и от нее тоже.
— Понимаю.
Он продолжал рассказывать историю своей жизни — фантастическую, ни на что не похожую историю, иногда она возмущалась:
— Коммерческий подход!
— С технической стороны? О да.
Она сказала:
— Жаль, что я не очень понимаю. Хотелось бы понять. Все это было действительно очень важно.
— Для Бога?
Она отшатнулась.
— Нет, что вы. Я имею в виду вас.
Он вздохнул.
— Очень трудно объяснить. Я уже пытался объяснить Ричарду. Вопрос о том, стоит ли это делать, никогда не стоял — я был должен.
— А если бы вас занесло в пустыню — было бы то же самое?
— Да. Но не надо меня так далеко заносить. — Он усмехнулся. — Актер не может играть в пустом зале. Писателю нужно, чтобы его читали. Художнику — показывать свои картины.
— Не понимаю; вы говорите так, как будто результат вас не интересует.
— Я не могу знать, каков результат.
— Но ведь есть цифры, статистика, новообращенные — обо всем этом писалось черным по белому!
— Да, да, но это опять техника, суетные подсчеты. Я не знаю, каких результатов хотел Бог и какие получил. Лаура, поймите простую вещь: если среди тех миллионов, что сходились меня послушать, Богу была нужна всего одна душа, и, чтобы получить ее, он избрал такое средство — этого уже достаточно.
— Из пушки по воробьям!
— По человеческим меркам это так. Но это наши трудности. Нам приходится применять человеческие мерки в суждениях о Боге — что справедливо, а что несправедливо. Мы не имеем ни малейшего представления, чего в действительности Бог хочет от человека, хотя весьма вероятно, что Бог требует, чтобы человек стал тем, чем он мог бы стать, но пока об этом не задумывался.
— А как же вы? Чего теперь Бог требует от вас?
— О, очень просто: быть обычным мужчиной. Зарабатывать на жизнь, жениться, растить детей, любить соседей.
— И вас это удовлетворит?
— Чего же мне еще хотеть? Чего может еще хотеть человек? Я, возможно, в невыгодном положении, я потерял пятнадцать лет обыкновенной жизни. В этом вы можете мне помочь, Лаура.
— Я?
— Вы же знаете, что я хотел бы жениться на вас — ведь знаете? Вы должны понимать, что я вас люблю.
Она сидела, страшно бледная, и смотрела на него. Нереальность праздничного обеда кончилась, они стали самими собой. Вернулись туда, откуда пришли.
Она медленно проговорила:
— Это невозможно.
— Почему?
— Я не могу выйти за вас замуж.
— Я дам вам время привыкнуть к этой мысли.
— Время ничего не изменит.
— Вы думаете, что никогда не сможете меня полюбить? Извините, Лаура, но это неправда. Я думаю, что вы уже сейчас меня немножко любите.
Чувство вспыхнуло в ней языком пламени.
— Да, я могла бы вас полюбить, я люблю вас..
Он сказал очень нежно:
— Это замечательно, Лаура… дорогая Лаура, моя Лаура.
Она выставила вперед руку, как бы удерживая его на расстоянии.
— Но я не могу выйти за вас замуж. Ни за кого не могу.
Он посмотрел на нее.
— Что у вас на уме? Что-то есть.
— Есть.
— Ради добрых дел вы дали обет безбрачия?
— Нет, нет, нет!
— Простите, я говорю как дурак. Расскажите мне, дорогая.
— Да, я должна рассказать. Я думала, что никому не скажу.
Она встала и подошла к камину. Не глядя на него, она заговорила обыденным тоном:
— Муж Ширли умер в моем доме.
— Я знаю. Она мне говорила.
— Ширли в тот вечер ушла, я осталась с Генри одна. Он каждый вечер принимал снотворное, большую дозу. Уходя, Ширли сказала мне, что уже дала ему таблетки, но я уже закрыла дверь. Когда я в десять часов зашла к нему спросить, не надо ли ему чего, он сказал, что сегодня не получил свою дозу снотворного. Я достала таблетки и дала ему. Вообще-то он уже их принял, вид у него был сонный, как бывает в таких случаях, но ему казалось, что он их еще не пил. Двойная доза убила его.
— И вы чувствуете себя ответственной за это?
— Я отвечаю за это.
— Формально да.
— Более чем формально. Я знала, что он уже получил свою дозу. Я слышала, как Ширли это сказала мне.
— Вы знали, что двойная доза его погубит?
— Я знала, что это может случиться.
Она через силу добавила:
— Я надеялась, что это случится.
— Понятно. — Ллевеллин не проявил никаких эмоций. — Он был безнадежен, да? Я хочу сказать, он остался бы инвалидом всю жизнь?
— Это не было убийством из милосердия, если вы это имеете в виду.
— Что было потом?
— Я полностью признала свою ответственность. Меня не судили. Встал вопрос, не могло ли это быть самоубийством — то есть не сказал ли Генри мне нарочно, что таблеток не принимал, чтобы получить двойную дозу. Таблетки всегда лежали вне пределов досягаемости, чтобы он не мог их взять в приливе отчаяния или гнева.
— Что вы сказали на это предположение?
— Я сказала, что так не считаю. Что Генри ни о чем подобном не думал. Он продолжал бы жить долгие годы, а Ширли ухаживала бы за ним, страдала от его эгоизма и дурного характера, жертвовала для него своей жизнью. Я хотела, чтобы она была счастлива, имела свою жизнь. Незадолго до этого она познакомилась с Ричардом Уайлдингом, и они полюбили друг друга.
— Да, она мне рассказывала.
— При обычном ходе вещей она бы развелась с Генри. Но Генри-инвалида, больного, зависящего от нее, — такого Генри она никогда бы не бросила. Даже если уже не любила. Ширли была верна, она самый преданный человек, какого я знала. Как вы не видите? Я не могла стерпеть, что вся ее жизнь будет разбита, потеряна. Мне было все равно, что станет со мной.
— Но вас оправдали.
— Да. Иногда я об этом жалею.
— Да, у вас должно возникать такое чувство. Но они ничего бы и не могли сделать. Даже если это не было ошибкой и если врач подозревал, что вы поступили так из милосердия, или даже не из милосердия, он понимал, что уголовного дела не будет, и не стал бы его поднимать. Другое дело, если бы заподозрили Ширли.
— Вопрос даже не возникал. Горничная слышала, как Генри сказал мне, что таблеток ему не давали, и просил дать.
— Да, для вас все сошло легко — очень легко. Что вы теперь об этом думаете?
— Я хотела, чтобы Ширли была свободна…
— Оставим Ширли в покое. Речь о вас и о Генри. Что вы думаете насчет Генри? Что для него это было к лучшему?
— Нет.
— Слава Богу.
— Генри не хотел умирать. Я его убила.
— Вы сожалеете?
— Вы хотите знать, сделала ли бы я это еще раз? Да.
— Без угрызений совести?
— Угрызений… О да, это было злое дело, я знаю. С тех пор я живу с этим чувством. Я не могу забыть.
— Отсюда Фонд для неполноценных детей? Добрые дела? Суровый долг в искупление вины?
— Это все, что я могу сделать.
— Ну и как, помогло?
— Что вы имеете в виду? Это полезное дело, мы оказываем помощь…
— Я имею в виду не других, а вас. Вам это помогло?
— Не знаю…
— Вы хотели наказать себя?
— Я хотела компенсировать зло.
— Кому? Генри? Но Генри мертв. И, насколько я знаю, его меньше всего беспокоили неполноценные дети. Посмотрите правде в лицо, Лаура: вы ничего не можете возместить.
Она замерла, как будто получила удар. Затем она откинула голову, лицо опять порозовело, она посмотрела на него с вызовом, и его сердце забилось; он ею восхищался.
— Вы правы, — сказала она. — Я правда пыталась обмануть себя, но вы показали, что мне это не удастся. Я говорила, что не верю в Бога, а на самом деле я верю. Я знаю, что мой поступок — зло. В глубине души я знаю, что буду за это проклята. Но я не раскаиваюсь. Я пошла на это с открытыми глазами. Я хотела, чтобы у Ширли была возможность стать счастливой, и она была счастлива. О, я знаю, счастье длилось недолго, только три года. Но даже если у нее было всего три года счастья и она умерла молодой — дело того стоило.

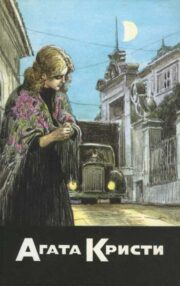
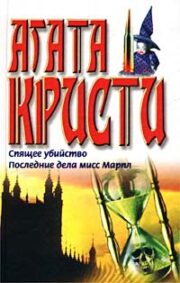
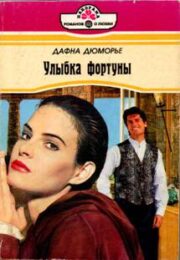


Эта книга Агаты Кристи просто потрясающая! Она показывает нам настоящую силу любви и преданности между матерью и дочерью. Я поражена тем, как Агата Кристи проникает в души героев и показывает их противоречивые чувства и мысли. Она позволяет нам понять, что любовь может быть не только сильной, но и болезненной. Эта книга действительно прекрасна и заставляет нас задуматься о наших отношениях с близкими людьми.