— Ну, наверное, в том, что ты не перелез вместе со мной через скалы.
— И почему же это я не захотел переходить в другую бухту, как ты думаешь?
— О, Максим, откуда мне знать? Я не умею читать чужие мысли. Я знаю, что ты не хотел, вот и все. Я видела это по твоему лицу.
— Что видела по лицу?
— Я уже сказала тебе. Видела, что ты не хочешь туда идти. Ох, давай прекратим этот разговор. Мне до смерти он надоел.
— Все женщины так говорят, когда им нечего больше сказать. Хорошо, я не хотел идти на этот пляж, Ты довольна? Я никогда не хожу в это проклятое место, к этому проклятому дому. И если бы ты помнила то, что помню я, ты бы тоже не захотела туда ходить или говорить об этом, и даже думать. Ну, как тебе это — по вкусу? Попробуй переварить.
Он побледнел, в глазах появилось то же затравленное, потерянное выражение, которое поразило меня при нашей первой встрече. Я протянула руку и взяла его ладонь. Крепко сжала ее.
— Пожалуйста, Максим, пожалуйста, — взмолилась я.
— В чем дело? — грубо сказал он.
— Я не хочу, чтобы у тебя был такой вид, — сказала я. — Мне это слишком больно. Пожалуйста, Максим. Давай забудем все, что мы наговорили. Глупый, пустой спор. Прости меня, любимый, прости меня. Пожалуйста, пусть все будет хорошо.
— Нам надо было оставаться в Италии, — сказал он. — Нам не надо было приезжать в Мэндерли. О, господи, какой же я был дурак, что вернулся.
Он нетерпеливо отводил в стороны ветви деревьев, шагая еще быстрее, чем прежде, и мне приходилось бежать, чтобы не отстать от него; я задыхалась, ловила ртом воздух, к глазам подступали слезы, а тут еще бедняга Джеспер, которого я с трудом волокла за собой.
Наконец мы подошли к началу тропинки, и я увидела вторую, отходящую налево, в Счастливую Долину. Значит, мы поднимались по той самой тропинке, по которой тогда, днем, захотел пойти Джеспер. Теперь я поняла, почему он свернул на нее. Она вела к той части берега, которую он знал лучше, она вела к лодочному домику. Он привык ходить этим путем.
Мы вышли к лужайке и молча пошли к дому. Лицо Максима было сурово, я ничего не могла по нему прочитать. Он вошел в холл и, не глядя на меня, направился к библиотеке. В холле был Фрис.
— Подавайте чай, — сказал Максим и закрыл дверь библиотеки.
Я с огромным трудом удерживалась от слез. Фрис не должен видеть, что я плачу. Он подумает, что мы ссорились, пойдет и скажет всем остальным слугам: «Миссис де Уинтер плакала сейчас в холле. Похоже, у них не все благополучно». Я отвернулась, чтобы он не увидел моего лица, но он подошел ко мне, чтобы помочь снять макинтош.
— Я повешу ваш дождевик на старое место, мадам, — сказал он.
— Спасибо, Фрис, — ответила я, все еще отворачиваясь.
— Боюсь, не очень подходящий день для прогулки, мадам.
— Да, — ответила я. — Да, не очень.
— Ваш платок, мадам? — сказал он, поднимая что-то с пола.
— Спасибо, — сказала я, кладя его в карман.
Я не знала, идти ли мне наверх или последовать за Максимом в библиотеку. Фрис унес макинтош. Я стояла в нерешительности и грызла ногти. Фрис вернулся. Увидев, что я все еще здесь, он удивленно посмотрел на меня.
— В библиотеке уже давно горит камин, мадам.
— Спасибо, Фрис.
Я медленно двинулась через холл к библиотеке. Открыла дверь и вошла. Максим сидел в кресле, Джеспер у его ног, старый пес — в своей корзинке. На подлокотнике кресла лежала газета, но Максим ее не читал. Я подошла, стала возле него на колени и прижалась лицом к его лицу.
— Не сердись на меня больше, — шепнула я.
Он взял мое лицо в ладони и посмотрел на меня усталыми, измученными глазами.
— Я не сержусь на тебя, — сказал он.
— Нет, сердишься, — сказала я. — Я огорчила тебя. Это то же самое, что рассердила. Ты весь истерзан и изранен, у тебя все внутри болит. Я просто не могу этого видеть. Я так тебя люблю…
— Да? — сказал он. — Да? — Он крепко сжал мне плечи, его глаза вопрошали меня, темные, неуверенные, глаза ребенка, которому больно, которому страшно.
— Что с тобой, любимый? Почему у тебя такой взгляд?
Он не успел ответить — дверь отворилась; я отпрянула назад, сделав вид, будто хотела достать полено и подкинуть его в огонь, а в комнату вошел Фрис, за ним Роберт, и ритуал чаепития начался.
Повторилась та же церемония, что и накануне, был принесен столик, покрыт белоснежной скатертью, поставлены блюда со сдобными лепешками и пирожками, водружен на газовую горелку серебряный чайник с кипятком. Джеспер, виляя хвостом и подрагивая ушами от радостного предвкушения, не сводил глаз с моего лица. Прошло минут пять, прежде чем мы остались одни, и, когда я взглянула на Максима, я увидела, что на его щеки вернулась краска, измученный, потерянный взгляд исчез, и он тянет руку к тарелке с сандвичами.
— Вся эта куча народа за ленчем — вот кто во всем виноват, — сказал он. — Бедняжка Беатрис всегда страшно раздражает меня. Детьми мы дрались с ней, как кошка с собакой. Я очень ее люблю, благослови ее господь. Но как хорошо, что они живут не рядом с нами! Кстати, это напомнило мне, что нам надо как-нибудь съездить повидать бабушку. Налей мне чаю, детка, и прости за то, что я был так с тобою груб.
Эпизод был закончен. Подведена черта. Больше об этом не следовало говорить. Максим улыбнулся мне, поднеся ко рту чашку чая, затем протянул руку за газетой, лежавшей на кресле. Улыбка должна была вознаградить меня. Как Джеспера — если погладить его по голове. Хороший пес, хороший… А ну, на место, и больше меня не тревожь. Я снова стала Джеспером. Вернулась туда, где была раньше. Я взяла кусок лепешки и разделила его между псами. Я не хотела ее, я была не голодна. Только теперь я почувствовала, как устала, как разбита, я была как выжатый лимон. Я поглядела на Максима, но он читал газету, он уже перевернул газетную страницу. Я перепачкала пальцы маслом от лепешки и стала искать в кармане носовой платок. Вытащила его — крошечный лоскут, обшитый кружевами. Я, нахмурясь, уставилась на него — это был не мой платок. И тут я вспомнила, что Фрис поднял его с пола в холле. Наверное, он выпал из кармана макинтоша. Я развернула его на ладони. Он был грязный, с налипшими ворсинками от подкладки. Он, должно быть, пролежал в кармане макинтоша много времени. В уголке была вышита монограмма. Высокое косое «Р» переплеталось с «де У.». «Р» подавляло остальные буквы, палочка уходила из кружевного уголка чуть не к самому центру. Крошечный платочек, лоскуток батиста. Его скатали в комочек, сунули в карман и забыли.
Я, вероятно, была первой, кто надел макинтош после того, как пользовались этим платком. Та, которая носила его, была высокая, стройная, шире меня в плечах, потому что макинтош был мне велик и длинен, и рукава доходили до самых пальцев. На нем не хватало многих пуговиц. Она не потрудилась их пришить. Носила дождевик внакидку, как пелерину, или надевала, не застегивая, и ходила, сунув руки в карманы.
На платке было розовое пятно. Губная помада. Она вытерла губы платком, скатала его в комочек и оставила в кармане. Я принялась обтирать им пальцы и тут почувствовала, что в нем все еще держится запах.
Запах, который я знаю, запах, который мне знаком. Я закрыла глаза и попыталась вспомнить. Еле уловимый аромат ускользал от меня, я не могла распознать его. Но я вдыхала его раньше, я держала в руках цветок, источавший его еще сегодня днем.
И тут я его узнала: исходивший от платка почти исчезнувший запах был тот самый, что струился от раздавленных в пальцах лепестков белой азалии в Счастливой Долине.
Глава XI
Целую неделю было сыро и холодно, как это часто бывает ранним летом в западных графствах, и мы больше ни разу не ходили на берег. Море я видела с террасы и лужаек. Оно выглядело серым и неприветливым, мимо маяка на мысу катились к заливу огромные валы. Я представляла, как они устремляются в бухточку и с грохотом разбиваются о скалы, а затем — быстрые и мощные — накатываются на отлого спускающийся берег. Когда я выходила на террасу и прислушивалась, до меня доносился издалека приглушенный рокот моря, печальный и мрачный. Унылый, упорный звук, не затихающий ни на миг. Летели на сушу чайки, крича и хлопая распростертыми крыльями. Я начала понимать, почему некоторые люди не выносят шум моря. Порой у него был тоскливый, заунывный звук, и самое его упорство, и бесконечно чередующийся грохот и шипение резали ухо, действуя на нервы, как неблагозвучная песня. Я радовалась, что наши комнаты находятся в восточном крыле и я могу высунуться из окна и поглядеть вниз на розарий. Порой я не могла уснуть и, выбравшись потихоньку из постели, подходила в безмолвии ночи к окну и облокачивалась на подоконник — вокруг был такой мир, такой покой.
Мне не слышно было бурное море, и поэтому в мыслях моих тоже были мир и покой. Они не вели меня по крутой тропинке через лес к серой бухте и покинутому сараю для лодок. Я не хотела думать о нем. Слишком часто я вспоминала о нем днем. Стоило мне увидеть с террасы море, и он тут же вставал передо мной, как дурной сон. Я снова видела фарфоровые чашки в голубых пятнах, нити паутины на крошечных мачтах игрушечных кораблей и прогрызенные крысами дырки на обивке дивана. Я слышала стук дождя по крыше, вспоминала Бена, его водянисто-голубые глаза-щелочки, его хитрую ухмылку идиота. Все это тревожило меня, выводило из равновесия. Я хотела забыть обо всех этих вещах и в то же время хотела знать, почему они тревожат меня, почему я чувствую себя так скверно и неловко. Где-то в глубине души у меня медленно и незаметно прорастало украдкой зернышко любопытства, как я ни старалась его подавить, и я испытывала все сомнения и тревоги ребенка, которому сказано: «Об этом не говорят, это запретная тема!»
Я не могла забыть потерянного выражения в глазах Максима, когда мы поднимались по тропинке через лес, я не могла забыть его слов: «О господи, какой же я был дурак, что вернулся!» Во всем этом была виновата я одна — зачем я пошла в ту бухту?! Я вновь открыла дорогу в прошлое. И хотя Максим оправился и вновь стал самим собой и мы жили с ним бок о бок, ели, спали, гуляли, писали письма, ездили в деревню, прокладывая себе путь час за часом сквозь каждый день, я знала, что из-за этого между мной и Максимом стоит стена.


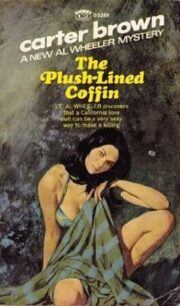


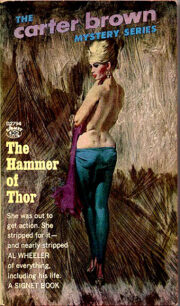
Дафна дю Морье подарила нам незабываемое чтение.
Ребекка — прекрасный роман о любви и преодолении преград.
Книга поднимает дух и вдохновляет.
Прекрасное произведение, полное душевной глубины.
Сильные герои и их приключения поражают своей историей.
Ребекка — история о любви и преданности.
Дафна дю Морье подарила нам незабываемое чтение.