Втайне я даже восхищаюсь его потрясающей самодостаточностью.
Впрочем, вечером, лежа в спальном мешке, я пытаюсь убедить Макса, что его драгоценный Мак — невыносимый тип!
Вечно всех и вся критикует, и это, похоже, приносит ему мрачное удовлетворение.
У меня очередная неприятность — что-то стряслось с ногами; они стали настолько разными, что при ходьбе в моей походке заметен явный крен. Что это? Первые симптомы некой тропической болезни? Я спрашиваю Макса, не заметил ли он, что я в последнее время хожу не совсем прямо.
— Но ведь ты совсем не пьешь, — изумляется он и вздыхает:
— Видит Бог, я так старался привить тебе вкус к хорошим винам.
В ответ я тоже виновато вздыхаю. У каждого человека непременно есть какая-нибудь злосчастная слабость, с которой он сражается всю жизнь. Лично мне, увы, не дано ощутить прелесть табака и крепких напитков. Если бы я хотя бы осуждала тех, кто курит и любит выпить… Но я с такой завистью смотрю на гордых дам с сигаретами в длинных мундштуках, небрежно стряхивающих пепел, я же тем временем ищу укромный уголок, чтобы припрятать где-нибудь свой бокал, который даже не пригубила.
Все мои усилия оказались напрасны. Шесть месяцев я истово курила после ленча и после обеда, задыхалась, давясь табачными крошками и щурясь от едкого дыма, щиплющего глаза. Я утешала себя: ничего, скоро привыкну, — но так и не привыкла. Все друзья твердили в один голос, что на мои жалкие попытки стать заядлой курильщицей больно смотреть.
Когда я вышла замуж за Макса, выяснилось, что мы оба любим одни и те же блюда, предпочитая здоровую пищу, разве что порции могли бы быть поменьше. И как же огорчился Макс, узнав, что я не любительница выпить! Точнее, не пью вообще. Он пытался меня перевоспитать, последовательно предлагая мне разные марки кларетов, бургундское, сотерн, а затем, со все возрастающим отчаянием, токайское, водку и абсент! В результате он вынужден был признать свое поражение. Моя единственная реакция была такова: каждая новая марка вина вызывала у меня еще большее отвращение. Макс только вздыхал, поняв, что собутыльник из меня никудышный.
Он искренне уверял меня, будто постарел от этого на несколько лет.
Вот откуда глубокая, безысходная печаль в его реплике насчет моей занудной трезвости.
— Мне кажется, — объясняю я, — что я все время заваливаюсь влево…
Макс весело сообщает, что это действительно симптомы одной из редких тропических болезней, которая названа в честь кого-то «болезнь Стивенсона» или «болезнь Хартли». Такие недуги, обнадежил он меня, заканчиваются, как правило, тем, что у больного отваливаются пальцы на ногах, один за другим. Приятная перспектива, ничего не скажешь. Я вдруг решаю осмотреть свои туфли. Все ясно!
Внешняя сторона левой подошвы и внутренняя правой полностью стерты. Я пытаюсь сообразить, откуда этот очень странный дефект, и внезапно меня осеняет… Ведь я уже по несколько раз обошла вокруг каждого из пятидесяти курганов и городищ, причем всегда шла против часовой стрелки, а слева был крутой склон. Теперь просто нужно заходить с другой стороны кургана, и мои подошвы будут стираться равномерно!
Сегодня прибываем на Телль-Аджаджа, ранее называвшийся Арбан. Этот телль очень большой и очень важный для нас. Рядом проходит дорога из Дейр-эз-Зора, по нашим понятиям, настоящая магистраль! Мимо нас за это время промчалось целых три автомобиля, все — в направлении Дейр-эз-Зора.
К подножию телля жмется горстка саманных домиков, к нам на курган наведываются весь день какие-то люди: что значит цивилизация! Завтра мы поедем в Хассече, в этом месте Хабур соединяется с Джаг-Джагом. Там будет еще больше цивилизации, это французский военный форпост, да и сам город, по местным масштабам, не маленький.
Здесь я увижу наконец пресловутую и долгожданную реку Джаг-Джаг! Предвкушаю потрясение!
По прибытии в Хассече я и правда потрясена. Городок оказался крайне непритязательный — узкие улочки, несколько магазинов да еще почта. Мы наносим два официальных визита: один — к военным, другой — в почтовое отделение. Французский лейтенант очень любезен и горит желанием оказать нам всяческое содействие. Он предлагает поселиться в его доме, на что мы отвечаем, что наши палатки, уже установленные на берегу реки, нас вполне устраивают. А вот приглашение на завтрашний обед мы с удовольствием принимаем.
Визит на почту, как всегда, затягивается. Почтмейстера нет на месте, и, соответственно, все заперто. На его поиски отправляется мальчишка, и совсем скоро (через полчаса) тот как ни в чем не бывало радушно нас приветствует, велит приготовить нам кофе, и только после продолжительного обмена любезностями речь заходит о письмах.
— Зачем так спешить? — улыбается он. — Завтра приходите, я буду рад.
— Завтра нам надо работать, — объясняет Макс. — Хорошо бы получить всю нашу корреспонденцию сегодня.
Но вот приносят кофе. Мы неспешно попиваем его, а почтмейстер отпирает свою конторку и приступает к поискам. По доброте сердечной он предлагает нам и письма, адресованные другим европейцам.
— Взяли бы и эти, — уговаривает он. — Они валяются здесь уже шесть месяцев. За ними никто не пришел. Да, да, наверняка они вам пригодятся.
Вежливо, но твердо мы отказываемся взять письма, предназначенные мистеру Джонсону, мосье Маврогордату и мистеру Паю. Почтмейстер разочарован.
— Так мало? — сетует он. — А вот это большое письмо — взяли бы, а?
Но мы забираем только те конверты, где стоят наши имена. Нам пришел и денежный перевод, и Макс долго объясняет, что по этой бумаге мы должны получить деньги. Но не тут-то было. Почтмейстер наш, явно ни разу в жизни не видавший почтового перевода, отнесся к телеграфному уведомлению крайне подозрительно. Он призывает двух помощников, вопрос тщательно и всесторонне обсуждается, впрочем, вполне добродушно. Все трое взволнованы нештатной ситуацией.
Наконец они приходят к единому мнению, и мы заполняем уйму каких-то бланков, но тут выясняется, что на почте вообще нет наличности! Почтмейстер заверяет нас, что завтра утром проблема будет решена: он закажет деньги на Базаре. Завтра они будут доставлены.
Порядком уставшие, мы покидаем этот пыльный, грязный городишко. Добредя до нашего лагеря у реки, мы видим удручающее зрелище. Наш повар Иса сидит у кухонной палатки и рыдает, уткнув лицо в ладони.
— Что случилось?
— Беда, — отвечает он, — позор мне? Даже мальчишки надо мной смеются. На минутку только отвернулся, и они сожрали весь обед, эти гнусные собаки! Ничего не осталось, ничего, кроме риса.
Мы угрюмо жуем пустой рис, а Хамуди, Аристид и Абдулла не перестают пилить бедного Ису внушая ему, что хороший повар не глазеет по сторонам, а следит за кастрюлями. Иса отвечает, что он, наверное, плохой повар, ведь он никогда прежде им не был («Это многое объясняет?» — замечает Макс), — и что лучше он пойдет работать шофером.
Не даст ли Макс ему рекомендацию для владельца гаража, что он отличный специалист? Макс отказывается наотрез, мотивируя это тем, что никогда не видел Ису за рулем.
— Но я ведь как-то пытался завести вручную нашу «Мэри». Вы это видели?
Макс признает, что видел.
— Ну вот! Разве этого недостаточно? — вопрошает Иса.
Глава 3
Хабур и Джаг-Джаг
Эти осенние дни великолепны. Мы встаем рано, сразу же после восхода солнца, завтракаем вареными яйцами и горячим чаем и отправляемся в путь. Еще холодно, и я надеваю два шерстяных свитера, а сверху еще большую вязаную кофту. Освещение удивительное: нежно-розовая заря смягчает коричнево-серую гамму окрестных скал. С вершины кургана все вокруг выглядит пустынным. Повсюду — курганы, холмы, городища, их не меньше шестидесяти.
Шестьдесят некогда полных жизни древних поселений. Эти края, где сегодня лишь кочевники порой разбивают свои коричневые шатры, в свое время были весьма оживленной частью древнего мира, — пять тысяч лет назад. Здесь зарождалась цивилизация, и именно тут мною найдены черепки от горшков с узором из черных точек и крестиков — предшественники чашки, купленной мной в «Вулворт», из которой я пила сегодня утром свой чай…
Я сортирую черепки, оттягивающие карманы моей кофты (я уже дважды меняла в них подкладку), выбрасываю дубликаты и выбираю те, что смогу представить, конкурируя с Маком и Хамуди, на суд Нашему Главному Эксперту.
Итак, что у меня в карманах? Толстый серый обломок — часть венчика горшка (ценен тем, что дает представление о форме сосуда), еще какие-то грубые черепки красной керамики, два фрагмента с ручной росписью и один — с точечным орнаментом (древнейший Телль-Халаф!), кремневый нож, один фрагмент донца и несколько обломков расписной керамики, не поддающихся идентификации, а также кусочек обсидиана.
Макс производит досмотр моих сокровищ, безжалостно выбрасывая большую их часть, но некоторые все же оставляет, одобрительно хмыкнув. Хамуди добыл глиняное колесо от колесницы, а Мак — покрытый резьбой черепок и фрагмент статуэтки.
Макс помещает все это в полотняный мешок, тщательно его завязывает и снабжает биркой с названием телля, где все собрано. Этот телль, не отмеченный на карте, Макс окрестил Телль-Мак, в честь нашего Макартни, которому принадлежит честь первой ценной находки.
На непроницаемой физиономии Мака мелькает нечто похожее на улыбку благодарности.
Мы спускаемся со склона Телль-Мака и садимся в машину. Солнце начинает припекать, я снимаю один свитер. Осматриваем еще два небольших кургана, а у третьего, на самом берегу Хабура, делаем перерыв на ленч. Едим мы крутые яйца, говяжью тушенку, апельсины и довольно черствый хлеб. Аристид кипятит на примусе чай. Жара достигает апогея, тени больше нет, все тонет в бледном мареве зноя. Макс утешает: хорошо еще, что мы производим рекогносцировку сейчас, а не весной. На мое «почему?» он объясняет, что весной среди травы искать черепки куда труднее. Макс уверяет, что весной тут все зелено. Это, по его словам, плодороднейшая степь! Ну это уж он чересчур преувеличивает, возражаю я, но Макс повторяет: да, это — плодороднейшая степь.

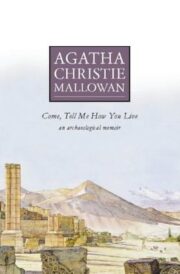

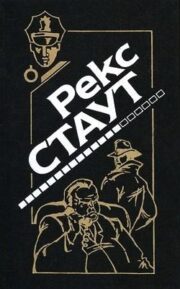

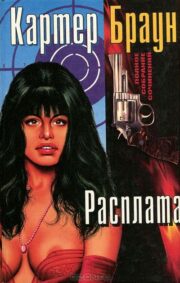
Агата Кристи прекрасно описывает детали и подробности, что делает книгу очень захватывающей.
Удивительное путешествие в мир Агаты Кристи!
Захватывающая история о любви и приключениях.
Прекрасное произведение для всех, кто любит хорошие истории.
Отличное произведение для любителей Агаты Кристи.
Книга помогает читателю понять мир детективного жанра и принять правильное решение.
Очень интересно прочитать и понять эту книгу.
Книга Агаты Кристи «Расскажи, как живешь» предлагает интересный и захватывающий погружение в мир детективного жанра.
Агата Кристи предоставляет увлекательное чтение и позволяет читателю погрузиться в мир детективного жанра.