И впрямь, в эту ночь что-то было неладно с пространством и временем – пройдя материки и миры, он знал, что вертится почти на одном месте, к тому же – знакомом, и только повторял про себя, что в чем-то ошибся. Видимо, он устал и очень уж удивился последней тайне, но мы допустим все это, иначе мы не поймем той растерянной, едва ли не бессознательной выучки, которая руководила им на этой, завершающей стадии. Что-то он оставил наверху, в скверике, – может быть, смех.
Далекая звезда исчезла, но он спускался, почти не представляя, какие опасности и ужасы ждут внизу. Однако, что бы он себе ни представил, действительность оказалась нелепей.
6. Слово сказано
Полковника Гримма не без причин считали твердолобым; во всяком случае, трезвым он был. Поэтому так важно, что именно он вспоминал эту ночь как истинный кошмар. В ней было то, что бывает в снах, – повторения, несообразности, клочки воспоминаний и, главное, такое чувство, словно у тебя два разума, один – здоровый, другой – больной. Особенно это усилилось, когда подземные блуждания снова вывели в сравнительно нормальный мир. Полковник видел луну; но ему казалось, что она обернута к нему невидимой стороной, да и вышел он на обратной стороне Земли. Еще хуже стало, когда, пройдя по туннелю, он вступил на какую-то лесенку, расположенную в каминной трубе, и, добравшись до середины, услышал тихий, глухой голос:
– Постойте. Я схожу, осмотрюсь. Меня они не испугаются.
Гримм остался на лестнице, откуда и глядел на бледный диск, подобный луне, на вход в колодец. Вскоре диск потемнел, словно его закрыли крышкой, но, вглядевшись, глава полиции увидел что-то странное. Он зажег фонарик и едва не свалился, ибо на него смотрело, ухмыляясь, какое-то неприятное лицо.
– Нас не изловишь, – произнес профессор с той четкостью, какая бывает в снах. – Только мы скажем Слово, как все рассыплется.
Нелепая затычка исчезла, словно ее вырвали из бутылки, появился бледный диск, и через несколько мгновений полковник услышал шепот:
– Его уже нет, идите.
Полковник вышел в освещенный луною дворик, видимо, позади дома, и удивился, увидев полицейских, хотя сам их и поставил. На знаки, которые подавал Конрад, они реагировали сдержанно.
– Можете зайти, – все так же глухо сказал вожатый. – Конечно, возьмите своих людей. Подождите минутку, я посмотрю.
Он нырнул в заднюю дверь соседнего дома, а полицейский с начальником терпеливо поджидали на улице. Когда они начали думать о том, стоит ли идти в логовище злодеев, один из этих злодеев явился им.
В одном из окон взвилась штора, и они увидели того, кого видела принцесса на столике, перед кафе. Поэт глядел на луну, как и следует поэтам, и был особенно хорош, в частности – потому, что новый оттенок шарфа очень шел к пламенным усам. Картинным жестом выбросив руку, он напевно заговорил в той манере, которую называют театральной, если это соответствует определению «дурацкая». Текст был знакомый:
Друзья мои, ищите ключ к словам!
Тогда и Слово отворится вам,
Прекрасней солнца и прозрачней льдин.
Да, много слов; но ключ у них – один.
Он быстро опустил штору, и полицейские едва могли поверить, что действо, особенно – такое глупое, произошло на их глазах. В следующую секунду загадочный предатель стоял рядом с ними и шептал:
– Идите, идите!
Гримм двинулся во главе полицейских по лестнице, по каким-то переходам и вышел в большую, почти пустую комнату. Посередине стоял стол, на нем лежали четыре листка бумаги, словно приготовленных для совещания, но самым странным было то, что в каждой стене темнела дверь с массивной ручкой, словно за ней располагался другой дом.
На дверях значилось: «Проф. Фок», «Г-н Лобб», «Генерал Каск» и просто «Себастьян» – так иностранные поэты с великолепной наглостью подписывают стихи только именем.
– Вот их обиталище, – сказал Иоанн Конрад. – Не бойтесь, никто не убежит. – И прибавил, немного помолчав: – Но сперва поговорим о Слове.
– Да, – мрачно откликнулся полковник, – хорошо бы его узнать, хотя, по слухам, оно разрушит весь мир.
– Не думаю, – сказал предатель. – Скорее, создаст заново.
– Надеюсь, хоть это не шутка, – промолвил Гримм.
– Как посмотреть, – ответил Конрад. – Шутка в том, что вы его знаете.
– Я вас не понимаю, – сказал глава полиции.
– Вы слышали его раз двадцать, – сказал Великий Князь. – Вы слышали его минут десять назад. Его кричали вам в ухо, оно бросалось в глаза, словно плакат на стене. Вся тайна этого заговора – в небольшом слове, и мы его не скрывали.
Гримм глядел на него, сверкая глазами из-под густых бровей, лицо его менялось. Конрад медленно и четко прочитал:
– «Друзья мои, ищите ключ к словам…»
Гримм чертыхнулся и кинулся к двери с надписью «Себастьян».
– Правильно, – кивнул Конрад. – Все дело в том, что подчеркнуть или, если хотите, выделить.
– «Да, много слов…» – начал Гримм.
– Вот именно, – подхватил Конрад. – «…но ключ у них – один».
Полковник распахнул дверь и увидел не комнату, а шкаф, неглубокий шкаф с вешалками, на которых висели рыжий парик, рыжая бородка, павлиний шарф и прочие атрибуты прославленного стихотворца.
– Вся история великой революции, – продолжал Великий Князь спокойным, лекторским тоном, – все методы, при помощи которых удалось напугать Павонию, сводятся к этому короткому слову. Я повторял его, вы – не угадывали. Я был один.
Он подошел к другой двери, с надписью «Проф. Фок», распахнул ее и явил собеседнику неестественно узкий цилиндр, поношенный плащ, неприятную маску в зеленоватых очках.
– Апартаменты ученого, – пояснил он. – Надо ли говорить, что и его не было? То есть был я. Вот с двумя другими я рисковал, они ведь существуют, хотя не все уже в этом мире.
Он задумчиво почесал длинный подбородок, потом прибавил:
– Просто удивительно, как вы, такие умные, попадаетесь на собственном недоверии! Вам говорят – вы отмахиваетесь. Заговор отрицают – значит, он есть. Старый Каск твердит, что он болен, что он удалился на покой – так удалился, что даже не слышал, как он гуляет здесь в полной форме, – а вы не верите. Вы не верите никому. Сама принцесса сказала, что поэт какой-то ненастоящий с этими лиловыми усами. Тут бы и догадаться – но нет! Все говорили, король говорил, что ростовщик умер, и это правда. Он умер раньше, чем я стал его играть в этом костюме.
Он распахнул третий шкаф, где оказались седые усы и серые одежды скупца.
– Так вот и началось. Он действительно снимал этот дом, я действительно был ему слугой, опустился до такой службы, и единственное, что я унаследовал, – тайный ход.
Политика здесь ни при чем, сюда ходили странные женщины, он был плохой человек. Не знаю, интересны ли вам такие оттенки моих чувств, но скажу, что за три года у сластолюбивого ростовщика я обрел мятежный разум. Мир казался отсюда очень мерзким, и я решил перевернуть его, поднять мятеж, вернее – стать мятежом. Если действовать медленно, тактично, да еще обладать воображением, это нетрудно. Я выдумал четырех людей, двоих полностью.
Их никогда не видели вместе, но этого не замечали.
Когда они собирались, я просто переодевался и выходил на сцену через подземный ход. Вы не представляете, как легко морочить просвещенный, современный город. Главное – чтобы тебя все знали, лучше всего – за границей.
Напишешь статью, поставишь после фамилии целый набор букв, и никто не признается, что никогда о тебе не слышал.
Скажешь, что ты первый поэт Европы, – что ж, кому и знать. Если у вас есть два-три таких имени, у вас есть все.
Никогда еще не бывало, чтобы считанные люди значили так много, все остальные – ничего не значили. Газета говорит: «Страна идет за Хаммом», а мы понимаем, что его поддерживают три владельца газет. Ученый говорит: «Все приняли теорию Чучелло», а мы читаем, что ее приняли четыре немецких профессора. Как только я заимел науку и финансы, я знал, что бояться нечего. Поэт – для красоты, генерал – чтобы вас напугать. Простите, – прибавил он, – я не показал его апартаментов. Там только форма, лицо я красил.
– Не надо, не красьте, – любезно сказал полковник. – Что же будет теперь?
Заговорщик ответил не сразу – видимо, он мечтал.
– Все революции губило несогласие, – сказал он наконец. – Вот я и постарался, чтоб сообщники меня не выдали. Я не предвидел, что выдам их. Что ж, кончилась и эта революция. Великий поэт, великий воин, ученый, ростовщик – все схвачены, все повешены. Вон висят.
Он смущенно поклонился.
– А их недостойный слуга получил королевское прощение.
Гримм чертыхнулся было, но сказал, смеясь:
– Иоанн Конрад, вы и впрямь – сам черт! Я не удивлюсь, если вам удастся что-то сделать. Может быть, Хлодвиг III забыл, что он – король, но он еще помнит, что он – джентльмен. Идите своим путем, Великий Князь Павонский – может быть, вы знаете путь. Во всяком случае, вы сделали, что обещали. Вы сдержали слово.
– Да, – сказал Иоанн Конрад серьезно и спокойно. – Только в таком случае можно писать его с большой буквы.
Мы уже говорили, что в Павонии было просвещенное, современное правительство, и читатель вряд ли поверит, что и оно сдержало слово. Политики и финансисты мешали, как могли, чтобы выполнение обещаний не вошло в обычай. Однако в первый и в последний раз король топнул ногой, как бы звякнув шпорой. Он сказал, что это – дело чести; но ходили слухи, что немалую роль сыграла его племянница.
Эпилог
Убийца, шарлатан, вор и предатель рассказали журналисту о своих преступлениях короче и немного иначе, чем здесь. Однако длилось это долго; и за все время мистер Пиньон ни разу их не перебил.
Когда они закончили, он кашлянул и сказал:
– Что ж, господа, ваши рассказы замечательны. Но ведь всех нас иногда не понимают. Окажите мне честь, признайте, что я вас не торопил, не насиловал, слушал вежливо и наслаждался вашим гостеприимством, не извлекая из него практической пользы.





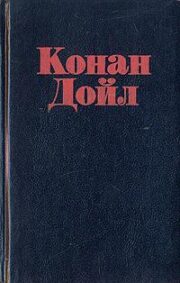
Эта книга предлагает нам посмотреть на преступников с другой стороны. Гилберт Кийт Честертон создает мощные персонажи, которые привлекают нас к их историям и помогают нам понять их мотивы.
Эта книга предоставляет нам возможность с глубиной понять причины, по которым люди совершают преступления. Гилберт Кийт Честертон прекрасно показывает нам душевное состояние преступников и их потребность в прощении.