Они не все время разговаривали. Ни один художник не будет заниматься болтовней во время работы. Каждые десять минут или что-то вроде этого Эльза высказывалась, а Эмиас что-то бурчал в ответ. Один раз она сказала:
— По-моему, ты прав насчет Испании. Туда мы поедем прежде всего. И ты поведешь меня на корриду. Наверное, это удивительное зрелище. Только мне бы хотелось, чтобы бык убил человека, а не наоборот. Я понимаю, что испытывали римлянки, видя, как умирает гладиатор. Люди ничего из себя не представляют, а животные прекрасны.
Она сама была похожа на животное — юная и первозданная, еще не постигшая ни печального опыта, ни умения сомневаться. По-моему, она даже не умела думать, она только чувствовала. Но в ней было так много жизни, гораздо больше, чем в ком-либо из моих знакомых…
В последний раз я видел ее такой радостно-уверенной — на вершине вселенной. Но за такой веселостью обычно грядет беда.
Прозвонил гонг на обед, я встал и подошел к калитке Оружейного сада, где ко мне присоединилась Эльза. Когда я вышел из тени деревьев, оказалось, что вокруг ослепительно светло. Я плохо видел. Эмиас сидел, откинувшись на спинку скамьи и раскинув руки. И смотрел на картину. Я часто видел его в таком положении. Откуда мне было знать, что яд уже убивает его?
Он ненавидел и презирал болезни. Он их не признавал. Наверное, решил, что у него что-то вроде солнечного удара — симптомы очень схожи, — но ни за что не стал бы жаловаться.
— Он не пойдет обедать, — сказала Эльза.
Про себя я подумал, что он правильно поступает.
— Тогда — до свидания, — сказал я.
Он оторвал взгляд от картины, и его глаза медленно обратились ко мне. Было что-то странное — как это сказать? — похожее на злорадство в его взгляде. Глаза его горели недоброжелательством.
Естественно, я тогда не понял — если в картине что-то получалось не так, как ему хотелось, он всегда злился. Вот я и решил, что именно в этом причина его злости. Он, мне показалось, даже что-то буркнул.
Ни Эльза, ни я не видели в этом чего-то необычного — просто темперамент художника.
Поэтому мы оставили его там и вместе отправились к дому, смеясь и болтая. Если бы она знала, бедное дитя, что в последний раз видит его в живых… Слава богу, она этого не знала. Ей предоставилась возможность еще немного быть счастливой.
За обедом Кэролайн вела себя совершенно нормально — пожалуй, казалась озабоченной чуть больше прежнего. Не доказывает ли это, что она не имела никакого отношения к трагедии? Не могла же она быть такой актрисой.
Кэролайн и гувернантка пошли в сад и там обнаружили Эмиаса. Я встретил мисс Уильямс, когда она бежала к дому. Она велела мне вызвать врача и бросилась обратно к Кэролайн.
Бедное дитя! Я говорю об Эльзе. Она горевала так отчаянно, так откровенно, как горюют только дети. Дети не могут поверить, что жизнь бывает столь несправедлива. Кэролайн держалась вполне спокойно. Да, она была спокойна. Конечно, она умела держать себя в руках куда лучше Эльзы. Она не выглядела кающейся — в ту пору. Только сказала, что он, наверное, покончил с собой. А мы не могли этому поверить. Эльза не удержалась и прямо в лицо обвинила ее в убийстве.
Конечно, Кэролайн, наверное, уже сообразила, что подозрения падут на нее. Да, этим, скорей всего, и объясняется ее поведение.
Филип не сомневался, что это совершила она.
Гувернантка оказала нам всем большую помощь и поддержку. Она заставила Эльзу лечь, дала ей успокоительное, а когда явилась полиция, держала Анджелу подальше. Да, эта женщина была цитаделью силы.
Все происходящее стало кошмаром. Полиция производила в доме обыски, вела допросы, затем, как мухи, налетели репортеры, щелкали своими камерами, требовали интервью у членов семьи.
Словом, кошмар…
Это оставалось кошмаром и годы спустя. Ради бога, если вам удастся убедить маленькую Карлу, что произошло на самом деле, быть может, мы сумеем забыть об этом навсегда.
Эмиас покончил с собой, как ни трудно в это поверить.
Конец рассказа Мередита Блейка.
Рассказ леди Диттишем
Я излагаю здесь всю историю моих отношений с Эмиасом Крейлом, начиная с нашего знакомства и до дня его трагической гибели.
Впервые я увидела его на приеме у одного художника. Он стоял, помнится, у окна, и я заметила его, как только вошла в комнату. Я спросила, кто это. Мне ответили: «Крейл, художник». И я сказала, что хотела бы с ним познакомиться.
В тот раз нам удалось поговорить, наверное, минут десять. Когда человек производит такое впечатление, какое Эмиас Крейл произвел на меня, попытка описать его бесполезна. Если я скажу, что, когда увидела Эмиаса Крейла, все остальные показались мне ничтожными и неприметными, это, пожалуй, будет точнее всего.
Сразу после нашего знакомства я отправилась смотреть его картины. У него была в ту пору выставка на Бонд-стрит, одна из его картин была выставлена в Манчестере, еще одна — в Лидсе и две в публичных галереях в Лондоне. Я посмотрела их все. Затем мы снова с ним встретились.
— Я видела все ваши картины, — сказала я. — Они изумительны.
Ему это понравилось.
— А кто вам сказал, что вы имеете право судить о живописи? Вряд ли вы в этом разбираетесь.
— Может, и нет, — согласилась я. — Но картины все равно чудесные.
— Не болтайте чепухи, — усмехнулся он.
— Не буду, — ответила я. — Я хочу, чтобы вы меня написали.
— Если бы вы хоть немного соображали, то поняли бы, что я не пишу портретов хорошеньких женщин.
— Это не обязательно должен быть портрет, и я не просто хорошенькая женщина.
Он взглянул на меня так, будто впервые меня увидел.
— Может, вы и правы, — сказал он.
— Значит, вы согласны? — спросила я.
Чуть склонив голову набок, он не спускал с меня внимательного взгляда.
— Вы необычное существо, верно? — спросил он.
— Я, знаете ли, довольно богата. И могу как следует оплатить вашу работу, — сказала я.
— А почему вам так хочется, чтобы я вас написал? — спросил он.
— Хочется, и все, — ответила я.
— Разве это веская причина? — спросил он.
— Да. Я всегда добиваюсь того, чего хочу, — ответила я.
— О, бедное дитя, как же вы еще молоды! — воскликнул он.
— Так вы напишете меня? — настаивала я.
Он взял меня за плечи, повернул к свету и осмотрел с головы до ног. Потом сделал шаг назад. Я стояла молча, в ожидании.
— Порой мне хотелось написать полет красочных австралийских макао, садящихся на купол собора святого Павла. Если я напишу вас на фоне нашего обычного загородного пейзажа, мне кажется, я добьюсь того же результата.
— Так вы согласны? — спросила я.
— Вы одно из когда-либо виденных мною прекраснейших созданий, насыщенных яркими, сочными, экзотическими красками. Я вас напишу!
— Значит, решено, — подытожила я.
— Но я должен предупредить вас, Эльза Грир, — продолжал он, — если я буду вас писать, я, наверное, буду добиваться близости с вами.
— Я на это надеюсь… — отозвалась я.
Я произнесла эти слова твердо и спокойно. И услышала, как у него перехватило дыхание, увидела, как загорелись глаза.
Вот как внезапно все это началось.
Через день-другой мы снова встретились. Он хочет, сказал он, чтобы я приехала к нему в Девоншир — там у него есть такое место, на фоне которого он и собирается меня писать.
— Я женат, вы, наверное, знаете? И очень люблю свою жену.
Я заметила, что, если он очень любит свою жену, значит, она славная женщина.
— Исключительно славная, — сказал он. — По правде говоря, — продолжал он, — она прелестный человек, и я ее обожаю. Поэтому примите это к сведению, милая Эльза, и ведите себя соответственно.
Я сказала, что хорошо его понимаю.
Он начал работу над картиной через неделю. Кэролайн Крейл встретила меня довольно радушно. Я ей не очень понравилась — собственно говоря, почему я должна была ей понравиться? Эмиас вел себя осторожно. Он не сказал мне ни слова, которого не должна была бы услышать его жена, я тоже держалась с ним почтительно и формально. Но мы оба понимали — это лишь видимость.
Спустя десять дней он велел мне возвращаться в Лондон.
— Картина еще не закончена, — сказала я.
— Она толком и не начата, — объяснил он. — Честно говоря, я не могу писать вас, Эльза.
— Почему? — спросила я.
— Вы сами знаете почему, — ответил он. — И поэтому вам придется убраться отсюда. Я не могу сосредоточиться, потому что думаю только о вас.
Мы были в Оружейном саду. Стоял жаркий солнечный день. Пели птицы, и жужжали пчелы. Казалось бы, надо испытывать счастье, когда кругом мир и покой. Но я этого не чувствовала. Было что-то… трагическое в атмосфере. Как будто… как будто то, чему суждено было случиться, отразилось в этом дне.
Я понимала, что мой отъезд в Лондон ничего не изменит, но сказала:
— Хорошо. Если вы говорите, что я должна уехать, я уеду.
— Умница, — похвалил меня Эмиас. Я уехала и ему не писала.
Он продержался десять дней, а затем приехал сам. Он так похудел, был таким изможденным и несчастным, что я испугалась.
— Я предупреждал вас, Эльза, — сказал он. — Не говорите, что я вас не предупреждал.
— Я вас ждала, — ответила я. — Я знала, что вы приедете.
У него вырвался какой-то стон, когда он сказал:
— Есть вещи, которые мужчина не в силах преодолеть. Я не могу ни спать, ни есть, ни отдыхать, потому что все время думаю о вас.
Я сказала, что знаю об этом и что испытываю те же чувства с той минуты, когда его увидела. Это — судьба, и незачем с ней сражаться.
— Но вы ведь и не особенно сражались, Эльза? — спросил он. И я ответила, что вовсе не сражалась.
Если бы я не была такой юной, сказал он, на что я ответила, что это не имеет значения. Следующие несколько недель, должна признаться, мы были счастливы. Даже не счастливы, нет, это не то слово. Это было нечто более глубокое и грозное.

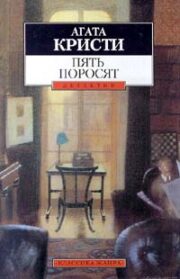
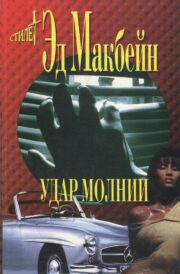


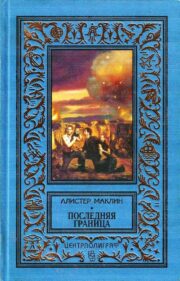
Захватывающие моменты!
Захватывающая атмосфера!
Отличное произведение для всех возрастов!
Отличная история!
Очень захватывающая история!
Прекрасное произведение Агаты Кристи!
Очень интересное произведение!
Удивительное путешествие!
Захватывающие персонажи!
Захватывающее чтение!