Отец его покамест не заметил. Я увидел обоих старших у мостков через ручей — они то ли шли к морю, то ли возвращались с рыбалки. А сын смотрел на них все с тем же растерянным, придурковатым видом. И не только придурковатым — испуганным.
Мне хотелось крикнуть: «Что происходит?» — но я не знал как. Короче, я стоял молча и тоже смотрел на отца.
Потом произошло то, чего мы оба боялись.
Отец поднял голову и увидел сына.
Он, должно быть, что-то сказал жене, велел ей стоять на месте, а сам развернулся и как молния бросился к камышовым зарослям, к сыну. Вид у него был устрашающий, до конца дней не забуду. Где уж там царственность! От нее и следа не осталось. Он кипел от гнева и ярости — и на ходу осыпал сына бранью. Ей-богу, я слышал своими ушами!
Сын, в полном ужасе, беспомощно озирался, искал, куда бы спрятаться. Но прятаться было негде. Никакого укрытия, кроме камышей у болота. И он, безмозглый дурачок, не нашел ничего лучше, как отступить подальше в камыши и пригнуться к земле. Думал, бедняга, что так его никто не отыщет. Смотреть на это было непереносимо.
Я собрался с духом и уже готовился вмешаться, но отец вдруг замер, как бы резко затормозил на бегу, повернулся и зашагал обратно к мосткам, продолжая сердито клокотать. Сын следил за ним из своего убежища, потом снова вышел на открытое место. Наверно, в его дурацкой башке засела мысль во что бы то ни стало вернуться домой.
Я огляделся вокруг. Ни души. На помощь позвать некого. Обратись я на ферму, тамошние работники наверняка бы посоветовали мне не встревать. Когда отец в гневе, его лучше не трогать, а сын уже взрослый, сам в состоянии себя защитить. Он ведь вымахал почти с папашу, вполне может дать ему сдачи. Но я-то знал, что это одна видимость. Сын не боец. Он не умеет драться.
Я еще довольно долго пробыл у озера, но никакого движения не заметил. Стало темнеть. Ждать дольше смысла не было. Отец с матерью с мостков ушли. А сын все стоял у зарослей на краю озера.
Я тихо окликнул бедолагу: «Не жди понапрасну, все равно он тебя домой не пустит. Возвращайся туда, откуда пришел. В Понт, в любое другое место, куда угодно, только уходи подальше».
Он поглядел на меня все с тем же тупым, растерянным видом и явно не понял ни слова из того, что я сказал.
Что я мог поделать? Я побрел домой и весь вечер думал про сына. А утром снова отправился на озеро, прихватив с собой для храбрости увесистую палку. Не то чтобы я всерьез собирался пустить ее в ход. С отцом это вряд ли прошло бы.
И что же я увидел? Наверно, за ночь они как-то между собой договорились, потому что сын теперь был дома, под боком у матери, а отец занимался своими делами и не обращал на них внимания.
Должен признаться, у меня отлегло от сердца. И то сказать: что я мог изменить? Если отец не желает держать сына дома, это его частное дело. А если сын по своей тупости не понимает, что пора отделиться от родителей и идти своей дорогой, это опять-таки его частное дело.
Но я во многом винил и мать. Кто, как не она, должен был объяснить сыну, что он тут лишний, что отец не потерпит его в доме и что самое лучшее для него — не отсвечивать тут и уйти, пока еще можно уйти по-хорошему. А она не догадалась. Она вообще, по-моему, умом похвастаться не могла. Да и характером тоже.
Какое-то время то, о чем они договорились, работало. Сын ни на шаг не отходил от матери — может, помогал по дому, хотя вряд ли, — а отец держался на отшибе и все больше замыкался в себе.
Он теперь часто сидел у мостков нахохлившись и глядел на море, одинокий и неприкаянный. Вид у него был чудно́й, я бы даже сказал зловещий. И мне это не нравилось. Я не знаю, что за мысли крутились у него в голове, но уверен — недобрые. Вроде бы совсем недавно он сам, и мать, и дети всей гурьбой отправлялись на рыбалку — дружные, довольные, но мне вдруг показалось, что с тех пор прошла целая вечность. Для отца все переменилось. Мать и сын были вместе, а он остался ни при чем.
Я испытывал к нему жалость, но в то же время меня грыз страх. Такая неопределенность не могла длиться бесконечно. Что-то должно было произойти.
Через пару дней я отправился на пляж собирать плавник — всю ночь на море бушевал ветер, — и когда по привычке поглядел в сторону озера, то увидел, что сын уже не дома. Он стоял там же, где и в первый день, — у камышовых зарослей. Он действительно вырос почти с отца. Если бы он соображал, как употребить свою силу, он вполне мог бы потягаться с родителем, но мозгами Бог его обделил. И теперь он снова торчал на краю болота — оторопелый, насмерть перепуганный верзила, а напротив у шалаша стоял отец и в упор глядел на своего отпрыска. И по его глазам было видно, что он замышляет убийство.
Я понял: отец его прикончит. Неважно где, как и когда. Может, ночью, во сне, а может, днем, на рыбной ловле. Мать — пустое место, она не способна ничему помешать. На нее надежды нет. Будь у сына хоть капля здравого смысла, он еще успел бы унести ноги…
Я пробыл на берегу до темноты. Но все было спокойно.
Ночью прошел дождь. Утро выдалось серое, холодное, туманное. По всему чувствовался декабрь, деревья стояли голые, угрюмые. На озеро я попал только ближе к вечеру, когда небо немного прояснилось. Солнце выглянуло перед самым закатом и ненадолго вспыхнуло водянистым блеском, как бывает зимой.
Я сразу увидел отца и мать. Они стояли рядышком возле своей развалюхи и явно меня заметили. Сына с ними не было. Не было его ни у камышей, ни у озера.
Я перешел через мостки и двинулся вдоль озера по правому берегу; бинокль был у меня при себе, но сына я нигде не обнаружил. И все это время отец не спускал с меня глаз.
А потом я его увидел. Я кубарем скатился по склону к воде и через заросли камыша пробрался туда, где лежал сын.
Он был мертвехонек. На спине у него зияла глубокая рана, вокруг запеклась кровь. Он пролежал там всю ночь, и тело намокло от дождя.
Вы подумаете, что я совсем спятил, но я не выдержал и разревелся, как последний идиот, и заорал через озеро отцу: «Убийца! Палач проклятый!» Он никак не откликнулся. Даже не шелохнулся. Так и стоял с супругой возле шалаша и по-прежнему следил за мной.
Вам, наверно, любопытно, что я сделал. Я сходил домой, принес лопату и выкопал бедняге могилу там же, в камышах, а потом прочитал молитву — свою собственную, самодельную. Я ведь понятия не имел, какая у них религия. А когда все было кончено, я снова поглядел на отца.
И знаете, что я увидел?
Я увидел, как он склонил свою великолепную голову, нагнулся к жене и обнял ее. А она потянулась к нему и тоже его обняла. Это было как реквием и как благословение. Отпущение грехов и осанна. Они знали, что сотворили зло, но теперь это было дело прошлое, потому что я предал сына земле и он ушел навсегда. Они снова были свободны, снова вместе, и не было никого третьего, кто мог бы встать между ними.
Они выплыли на середину озера, и внезапно отец вытянул шею, забил крыльями и мощным движением оторвался от воды, а мать поднялась за ним. Я смотрел, как они летят к морю, навстречу закатному солнцу, и клянусь — я в жизни не видел зрелища прекраснее, чем эта пара лебедей в пустынном зимнем небе.
Счастливого Рождества[34]
Лоренсы жили в большом доме сразу за городом. Мистер Лоренс был мужчина крупный, полный, круглолицый и улыбчивый. Каждое утро он уезжал на автомобиле в город, к себе в контору, где у него имелись солидный письменный стол и три секретаря. По ходу дня он звонил по телефону, ходил на деловой ланч и снова звонил по телефону. Зарабатывал он очень много.
У миссис Лоренс были светлые волосы и глаза фарфоровой голубизны. Мистер Лоренс называл ее Котенком, но это не значит, что она была не приспособлена к жизни. У нее были дивная фигура и длинные ногти, и днем она, как правило, играла в бридж. Бобу Лоренсу уже стукнуло десять лет. Он был точь-в-точь как мистер Лоренс, только поменьше. Ему очень нравились электровозы, и отец специально позвал мастеров, которые проложили в саду игрушечную железную дорогу. Мэриголд Лоренс исполнилось семь. Она была точь-в-точь как ее мать, только покруглее. Ей часто дарили кукол, но они у нее почему-то все время ломались. Кукол набралось уже пятнадцать.
Если бы вы случайно встретили Лоренсов, то сразу бы поняли: перед вами самая обыкновенная семья. Наверное, именно из этого-то все и приключилось. Слишком уж они были типичные. Жизнь их текла вольготно и безоблачно, что было, конечно же, очень приятно.
Вот и канун Рождества Лоренсы проводили примерно так же, как и все другие семьи. Мистер Лоренс пораньше вернулся из города, чтобы присутствовать при том, как семейство готовится к празднику. Он улыбался чаще обычного, засовывал руки в карманы, а когда споткнулся о собаку, спрятавшуюся за ветки омелы и остролиста, рявкнул: «Да чтоб тебя, чертяка!» Миссис Лоренс по такому случаю отказалась от бриджа и развешивала в гостиной фонарики. Собственно, развешивал фонарики мальчишка-садовник, а миссис Лоренс украшала их фестончиками из разноцветной бумаги и подавала ему; при этом она непрерывно курила, и дым разъедал мальчишке глаза, но он был слишком хорошо воспитан, чтобы отогнать клубы рукой. Боб Лоренс и Мэриголд Лоренс носились по гостиной, запрыгивали на диваны и стулья и кричали:
— А что мне завтра подарят? А мне подарят поезд? А мне подарят куклу?
В конце концов мистеру Лоренсу это надоело, и он сказал:
— Если не прекратите галдеж, вообще ничего не получите.
Впрочем, по тону было ясно, что он это не всерьез, и обмануть детишек не удалось.
Когда детям уже пора было идти спать, миссис Лоренс позвали к телефону. «Черт!» — сказала она и снова пустила мальчишке-садовнику в глаза струю дыма. Мистер Лоренс поднял с пола ветку и засунул за раму картины. Потом бодро засвистел.




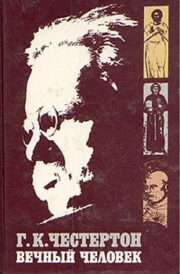

Этот сборник историй Дафны дю Морье просто потрясающий. Автор создает невероятно живые и правдоподобные персонажи, которые привлекают внимание с первой страницы. Она поднимает важные темы, которые могут заставить вас задуматься о жизни и о том, как мы все взаимодействуем друг с другом. Дафна привносит чувство надежды и просветления в каждую историю. Я очень рекомендую этот сборник историй как точку отправления для понимания и проникновения в мир Дафны дю Морье.