Он положил бритву на подоконник и вгляделся как следует. Яблоня была чахлая, невзрачная и жалкая на вид — не то что соседние деревья, крепкие и узловатые. Ветвей было немного, и росли они ближе к верхушке, придавая дереву сходство с костлявой, узкоплечей фигурой; ветки словно зябли в утренней прохладе и старались прижаться поближе к стволу с каким-то унылым, обреченным выражением. Проволока, которой был обмотан низ ствола, напоминала болтающуюся на тощих бедрах серую юбку, а у самой верхушки, провисая под собственной тяжестью, торчала одинокая ветка, похожая на поникшую голову.
Сколько раз он видел свою жену в точно такой понурой позе! Сколько раз она вот так же останавливалась и замирала, чуть подавшись вперед и ссутулившись, — дома ли, в саду или даже в магазине, когда они ездили в город за покупками. Она показывала всем своим видом, будто жизнь к ней особенно жестока и несправедлива, будто ей, в отличие от прочих людей, от рожденья суждено нести непосильную ношу, но она ее покорно тащит и дотащит до конца без единого слова жалобы. «Мидж, у тебя совершенно измученный вид, посиди, отдохни, ради бога!» Но на это она отвечала неизменным вздохом, неизменным пожиманием плеч: «За меня ведь никто не сделает» — и, с усилием распрямив спину, принималась за нескончаемый ряд утомительных и никому не нужных дел, которые выдумывала себе сама, — и так без конца, изо дня в день, из года в год.
Он не отрываясь глядел на яблоню. Ее согбенная, страдальческая поза, поникшая верхушка, уныло опущенные ветви, несколько сухих листьев, которые случайно уцелели во время зимней непогоды и теперь подрагивали под свежим весенним ветерком, как неряшливо подобранные пряди волос, — во всем этом сквозил немой укор: «Смотри, какая я — и все из-за тебя, ты совсем обо мне не думаешь!»
Он отвернулся от окна и снова начал бриться. Нет, нельзя давать волю нелепым фантазиям и вбивать себе в голову бог весть что, когда только-только начинаешь привыкать к долгожданной свободе. Он принял душ, оделся и сошел в столовую. Стол был накрыт к завтраку — на один прибор. На электрической плитке стояла сковородка с яичницей; он снял ее и перенес к столу, где его дожидался свежий, аккуратно сложенный, еще пахнущий типографской краской номер «Таймса». Когда жива была Мидж, он — по многолетней привычке — сперва передавал газету ей и после завтрака, унося «Таймс» к себе в кабинет, видел, что страницы смяты, перепутаны, сложены кое-как, и удовольствие от чтения бывало уже наполовину испорчено. И газетные новости утрачивали остроту, потому что самое интересное жена успевала прочесть за завтраком вслух, тоже по привычке, хотя ее никто не просил, да еще добавляла от себя язвительные комментарии. Если в газете сообщалось, что у кого-то, кого они знали, родилась дочь, она цокала языком и говорила, сокрушенно качая головой: «Вот не везет им, опять девочка», а если сообщалось о рождении сына, она вздыхала: «В наше время дать мальчику приличное образование… да, они с ним еще наплачутся!» Поначалу он считал, что такая неодобрительная реакция на приход в мир новой жизни психологически вполне объяснима — у них самих не было детей, но с течением времени он убедился, что точно так же она реагирует на любое приятное или радостное событие, словно радость сама по себе была в ее глазах чем-то оскорбительным и преступным.
«Тут пишут, что этим летом зарегистрировано рекордное количество отпускников. Будем надеяться, что им всем удалось хорошо отдохнуть». Но в голосе у нее звучала не надежда, а откровенный скепсис. После завтрака она отодвигала стул и говорила со вздохом: «Ну, что уж тут…» — останавливаясь на полуслове; но то, как она вздыхала, как пожимала плечами, как сутулилась над столом, собирая грязную посуду — она все боялась чересчур обременять прислугу, — все эти мелочи, даже самый вид ее согнутой, тощей спины, складывались в один привычный многолетний упрек, молчаливо обращенный к нему, — упрек, который уже давно отравлял их совместное существование.
Он молча вставал и предупредительно открывал перед ней дверь на кухню, и она молча проходила мимо, сгибаясь под тяжестью подноса с посудой, хотя убирать со стола самой не было ни малейшей надобности; потом до него доносился плеск воды в мойке на кухне. Он возвращался и снова усаживался на место, глядя на прислоненную к тостеру смятую газету со следами джема, и уже в который раз в его мозгу начинал стучать вопрос: «Что не так? В чем я виноват?»
Она не ворчала, не пилила его. Избитые шутки насчет сварливых жен, как и анекдоты о тещах, — это было что-то из области дешевой эстрады. Он не помнил, чтобы Мидж когда-нибудь вспылила, повысила голос, закатила ему скандал. Однако невысказанный вечный упрек в сочетании с позой благородной, безропотной страдалицы делал атмосферу жизни в доме совершенно невыносимой, заставлял его лгать по мелочам, лицемерить и при этом испытывать постоянное чувство вины.
Бывало так, что в какое-нибудь осеннее дождливое утро он спешил уединиться у себя в кабинете, включал на полную мощность обогреватель, не спеша закуривал трубку и, дымя в свое удовольствие, усаживался за письменный стол под предлогом того, что ему надо написать какие-то письма; на самом деле ему просто хотелось спокойно побыть одному в своей собственной комнате. Но вскоре дверь приоткрывалась и в кабинет заглядывала Мидж в низко надвинутой на глаза широкополой фетровой шляпе; натягивая дождевик, она недовольно морщила нос и замечала:
— Фу, как накурено, дышать невозможно!
Он ничего не говорил в ответ, только поворачивался к ней в кресле, прикрывая локтем наугад снятый с полки роман.
— Ты случайно в город не собираешься? — спрашивала она.
— Да нет, мне незачем.
— А… Ну, что уж тут… Неважно. — И она отходила от двери.
— А что такое? — спрашивал он вслед. — Тебе что-то нужно в городе?
— Надо бы рыбы к обеду купить. Ты же знаешь, по средам домой не привозят. Но раз ты занят, я как-нибудь сама. Я просто подумала…
И, не закончив фразы, исчезала.
— Мидж, постой! — окликал он ее. — Ладно, если хочешь, я сейчас выведу машину, съезжу за рыбой. Какой смысл тебе мокнуть под дождем?
Не получая ответа и думая, что она не расслышала, он выходил в холл. Она стояла у распахнутой входной двери, повесив на руку плоскую корзину, и надевала садовые перчатки. Ветер задувал в дом со двора моросивший дождь.
— Все равно уж, так и так мокнуть, — говорила она. — Надо привести в порядок цветы, подпорки укрепить, пока совсем не повалились. Управлюсь с цветами, сама съезжу.
Спорить было бесполезно. Она решила и сделает по-своему. Он захлопывал за ней дверь и возвращался в кабинет. Почему-то там казалось уже не так уютно. Через некоторое время, взглянув в окно, он видел, как она несет из сада корзинку с пожухлыми, намокшими цветами. Ему отчего-то становилось стыдно, и он наклонялся и убавлял в обогревателе жар.
А весной или летом часто бывало так, что он выходил в сад без всякой цели — просто погреться на солнышке, полюбоваться на лес, на поля, на лениво текущую реку; он прохаживался взад и вперед, сунув руки в карманы, а из окон верхнего этажа слышался пронзительный вой пылесоса. Вдруг вой со всхлипом обрывался, Мидж подходила к окну и окликала мужа:
— Ты собираешься что-нибудь делать?
Делать он ничего не собирался. Он просто вышел подышать ароматным весенним воздухом, порадоваться, что вот он уже на пенсии, не надо каждый день ездить на работу в Сити; что он волен наконец распоряжаться своим временем и тратить его на что угодно, в том числе на ничегонеделанье.
— Нет, ничего я делать не намерен, — отвечал он, — какие дела в такую погоду! А что?
— А, неважно, — говорила она, — просто я вспомнила… Этот несчастный сток под кухней опять не в порядке. Окончательно засорился, вода совсем не проходит. За ним все время надо следить, прочищать, а кто об этом позаботится? Придется сегодня самой заняться.
Она отходила от окна, пылесос со всхлипом взвывал опять, и уборка возобновлялась. И такая вот глупость могла испортить ему настроение, омрачить целый прекрасный день! Дело было не в ее несвоевременной просьбе и даже не в самой работе: что такое прочистить засорившуюся трубу? Пара пустяков, даже весело, напоминало детство — мальчишки всегда рады повозиться в грязи. Все дело было в выражении ее лица, в том, как она смотрела из окна вниз, на залитую солнцем террасу, каким усталым жестом поправляла выбившуюся прядь волос, как по обыкновению вздыхала, прежде чем отойти от окна, ничего не сказав, но наверняка подумав про себя: «Мне вот некогда бездельничать и греться на солнышке. Ну, что уж тут…»
Один раз он решился спросить, для чего всякий раз затевать такую грандиозную уборку. Почему надо переворачивать все вверх дном? Для чего ставить стулья один на другой, скатывать ковры, собирать и составлять на газету все безделушки? И главное — к чему натирать до блеска, буквально вылизывать не только полы во всем доме, но даже плинтусы в длиннющем коридоре наверху, на которые никогда не ступала нога человека? Он видеть не мог, как Мидж и приходящая прислуга часами ползают там на коленках, словно рабы из незапамятных времен.
Мидж взглянула на него с недоумением.
— Ты же первый станешь возмущаться, если в доме будет беспорядок, — сказала она. — Самому будет противно жить в свинарнике. Ты ведь у нас привык к удобствам.
Так они и жили — словно в разных мирах, без всяких точек соприкосновения. Всегда ли было так? Он уже и не помнил. Поженились они почти двадцать пять лет назад — и сейчас были просто два чужих человека, по привычке жившие под одной крышей.
Пока он ежедневно ездил на службу, он как-то этого не чувствовал, не замечал. Домой он приезжал в основном поесть и поспать, а назавтра спозаранку садился в поезд и снова ехал в город. Но когда он вышел на пенсию, его внимание поневоле сосредоточилось на жене, и с каждым днем его все сильнее задевало и раздражало ее всегдашнее недовольство, молчаливое неодобрение.


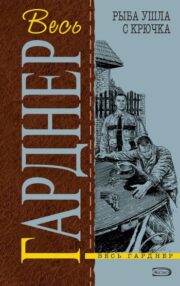

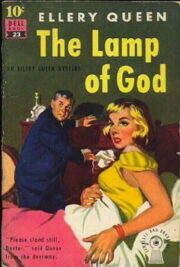

Этот сборник историй Дафны дю Морье просто потрясающий. Автор создает невероятно живые и правдоподобные персонажи, которые привлекают внимание с первой страницы. Она поднимает важные темы, которые могут заставить вас задуматься о жизни и о том, как мы все взаимодействуем друг с другом. Дафна привносит чувство надежды и просветления в каждую историю. Я очень рекомендую этот сборник историй как точку отправления для понимания и проникновения в мир Дафны дю Морье.