Родни вспомнил слова Джоанны, сказанные тем памятным осенним днем, когда он уходил на службу.
— Достоинство? О, да, конечно. Но достоинство— это еще не все.
— Ты так считаешь? — произнес он и, не дождавшись ответа, отправился в контору.
Родни вспомнил, как Лесли сидела здесь, у него в кабинете, в этом кресле напротив, с поднятой правой бровью и опущенной левой, с иронично изогнутыми уголками рта, откинув голову на высокую спинку кресла, обитую голубой тканью. Волосы Лесли, озаряемые огнем, казались зелеными.
Он вспомнил, как произнес удивленным голосом:
— А у тебя совсем не каштановые волосы. Они у тебя зеленые.
Эта фраза была единственной интимной вольностью, которую он когда-либо позволил себе в отношении Лесли. Он никогда не задумывался над тем, как она выглядит. Усталой, да, он знал это, и больной, да, но при этом все-таки сильной, очень сильной физически. Однажды он совсем не к месту подумал, что, если потребуется, она сможет запросто подхватить мешок, полный картошки, и по-мужски взвалить себе на плечо…
Не совсем романтичная мысль, да и в других его воспоминаниях о Лесли было маловато романтики. Правое плечо у нее было заметно ниже левого, левая 6ровь была очень подвижная и то и дело взмывала вверх, к самому лбу, или опускалась вниз, почти накрывая глаз, а правая бровь в это время покоилась на своем месте, словно прибитая. Когда она улыбалась, то левый угол рта у нее иронично изгибался, делая ее похожей на Мефистофеля, каким его изображают на книжных иллюстрациях. А каштановые, на первый взгляд, волосы казались в бликах каминного огня по-русалочьи болотно-зелеными, когда она сидела в этом кресле напротив, откинув голову на его высокую спинку.
Словом, Лесли вовсе не обладала сногсшибательной красотой, подумал он, и, на первый взгляд, ничто в ее облике не могло возбуждать любовь. Да и в самом деле, что такое любовь? Во имя всего святого, скажите, что такое любовь? Может быть, это благостное чувство тепла и умиротворенности, которое он всегда ощущал, всегда видел ее сидящей напротив, с зелеными волосами на бледно-голубом фоне обивки кресла? Однажды она сказала ему:
— Знаешь, я почему-то подумала о Копернике…
О Копернике? Почему, ответьте ради всего святого, о Копернике? Об этом церковнике, которому втемяшилась в мозги безумная мысль, сумасшедшая идея, небывалое видение совершенно иного мироустройства, и который необыкновенно хитро и ловко сумел преподнести эту мысль сильным мира сего и не попасть на костер.
Почему, скажите на милость, Лесли, зная, что ее муж в тюрьме, что ее семья погрязла в нищете, что дома ее ждут дети, которым нужна ее забота, — почему она могла, запустив руку в свои пышные волосы, вдруг сказать: «Знаешь, я почему-то подумала о Копернике»?
И, как всегда, когда он вспоминал о Лесли, Родни перевел взгляд на висевшую рядом с камином копию старинной гравюры, изображающей Коперника, который словно говорил ему: «Помни Лесли…»
«По крайней мере, — подумал Родни, — мне следовало бы сказать ей, что я люблю ее. Я бы мог сказать ей об этом. Хотя бы раз в жизни!»
Но была ли в этом какая-нибудь надобность? В тот день, когда они сидели вместе, но не рядом, на вершине Ашелдона, глядя на освещенную октябрьским солнцем долину, простирающуюся внизу перед ними, он мог бы сказать ей о своем чувстве. Они сидели вместе, но не рядом, ощущая неутоленную жажду любви и тоску по невозможному. Разделенные бесконечностью в четыре фута, они не рисковали сесть ближе друг к другу, чтобы потом не жалеть о непоправимом. Он знал, что Лесли тоже прекрасно понимает все это. Она должна была это понимать. «Это расстояние между нами, — еще тогда, смятенный и самоироничный, подумал он, — словно электрическое поле, заряженное страстью и желанием».
Они сидели молча, не глядя друг на друга. Они смотрели вниз, на зеленую долину, куда им никогда не сойти вместе, рука об руку. Они смотрели на зеленые поля и серые строения ферм, от которых доносилось слабое тарахтение тракторов, а бледно-сиреневая дымка приближающейся ночи уже накрывала землю.
Они были похожи на двух изгнанников, с тоской взирающих на землю обетованную, куда им уже никогда не попасть.
«Нет! Я обязательно должен был сказать ей тогда, что люблю ее!» — с грустной досадой подумал Родни.
Но когда они сидели на вершине Ашелдона, ни один из них не отважился сказать заветных слов. Разве что Лесли вполголоса пробормотала, словно только для себя, но Родни тоже услышал: «И пусть вовек не увядает лето…».
Только эти слова. Одна строка банальной цитаты. Он даже не знал, почему ей в голову пришли именно эти стихи.
Нет, он знал. Конечно, он знал. Бледно-голубая обивка кресла… Лицо Лесли… Он почему-то не мог отчетливо вспомнить ее лицо, единственное, что резко отпечаталось в его памяти, это саркастический изгиб рта.
В течение последних шести недель, пока не было Джоанны, Лесли незримо присутствовала в этой комнате, сидела напротив него в этом кресле и безмолвно разговаривала с ним. Разумеется, все было лишь в его воображении. Он создал у себя в душе ее подобие, усадил ее образ в кресло напротив себя и заставил говорить своими словами. Правда, он заставил ее говорить лишь то, что хотел слышать сам, и она покорно ему повиновалась, но все-таки ее рот все время кривился саркастической улыбкой, словно ей было смешно видеть, как он по-мальчишески забавляется с нею.
Это были самые счастливые недели, подумал он. У него появилась возможность повидаться с Уиткинсом и с Миллзом, они все вместе провели чудесный вечерок у Харгрейва Тейлора. Не так уж много друзей у него осталось. А в воскресенье он устроил для себя пикник, далеко уйдя по тропе за холмы. Кухарка приготовила ему отличный обед, слуга все разложил по судкам, завернул в салфетки и уложил в корзину. Он сидел на зеленом склоне холма и с наслаждением поедал вкусную снедь, не торопясь, как он любил, а потом дремал или читал книгу, время от времени подливая в стакан шипучей содовой воды из сифона, стоявшего рядом в траве. Придя домой, он немного отдохнул, потом закончил работу, которую брал с собой на воскресные дни, и наконец, покончив со всеми делами, закурил трубку и сел в кресло у пылающего камина, чувствуя себя одиноким и счастливым, наслаждаясь компанией лишь единственного гостя, сидевшего напротив, — образом Лесли, созданным его фантазией.
Да, это была воображаемая Лесли. Но, может быть, где-то недалеко от него находилась и настоящая, реальная Лесли?
И пусть вовек не увядает лето…
Он взглянул на дрожавший в руках договор об аренде.
«…а также обязан всеми способами улучшать вверенное ему хозяйство и соблюдать все правила землепользования».
«Да наверное, я и в самом деле настоящий законник. — подумал он. — Еще бы, ведь я процветаю.»
Он с грустной улыбкой посмотрел на бумаги, которые держал.
Да, фермерство в наши времена стало самым неблагодарным делом, подумал он.
«Господи! Как я устал!» — подумал он.
Давно он так не уставал.
В эту минуту отворилась дверь, и вошла Джоанна.
— Родни! — строго сказала она. — Опять ты читаешь в темноте!
Она потянулась над ним, овеяв теплом своего тела, и включила торшер. Он с благодарной улыбкой посмотрел на жену.
— Дорогой, ты порой бываешь такой глупый! Сидишь в темноте и портишь глаза, когда стоило лишь протянуть руку и щелкнуть выключателем!
Джоанна обошла вокруг и села в кресло напротив. — Не знаю, что бы ты без меня делал!
— Наверняка погиб бы, раздавленный бременем дурных привычек, дорогая, — усмехнулся он.
Он посмотрел на нее и снова улыбнулся доброй, насмешливой улыбкой.
— Ты помнишь, — сказала Джоанна, — как тебе однажды взбрела в голову мысль отказаться от предложения твоего дяди Генри и вместо этого заняться фермерством?
— Да, я помню, — ответил он.
— Теперь ты видишь, как я была права? — с превосходством и самодовольством посмотрела на него Джоанна. — Ты, наверное, в душе благодарен мне за то, что я не позволила тебе совершить эту большую глупость?
Родни посмотрел на нее, восхищаясь ее самоуверенностью и неведением, любуясь по-молодому гибкой ее фигурой, ее гладким, милым лицом, ее выпуклым, не тронутым морщинами глубоких раздумий лбом. Очаровательная, милая, впечатляющая…
«Все-таки Джоанна была мне очень хорошей женой!»— подумал он.
— Конечно, дорогая! Я очень рад этому, — ласково улыбнувшись, произнес он.
— Всех нас иногда осеняют сумасшедшие идеи! — произнесла она.
— Даже тебя! — спросил Родни.
— Он спросил это в шутку, но тут же осекся, заметив, как сердито нахмурилось ее лицо. По лицу Джоанны пробежала тень, словно порыв ветра сморщил гладкую поверхность пруда.
— Иногда у каждого из нас сдают нервы, — сказала Джоанна.
Родни удивился.
— Ты знаешь, я так завидую тебе, что ты посмотрела Ближний Восток собственными глазами, — сказал он, чтобы сменить тему разговора.
— Да, мне было очень интересно. Но жить в таком местечке, как Багдад, я бы не хотела, дорогой! — возразила Джоанна.
— Интересно, на что похожа пустыня? — задумчиво произнес Родни. — Я не видел пустыни ни разу в жизни. Наверное, это удивительное зрелище? Один песок до самого горизонта… Пустота, безмолвие и яркий свет ясного солнца… У нас в Англии такого не увидишь. Мне особенно нравится представлять себе солнечный свет в пустыне. Образ солнца в пустыне просто восхищает. Должно быть, при таком свете все становится ясным и отчетливым, не так ли? Мне хочется собственными глазами увидеть эту ясность…
— Я ненавижу пустыню! — резко оборвала его Джоанна. — Я ненавижу ее! Там одна лишь пустота и нет ни капли воды!
Она оглянулась вокруг лихорадочным, нервным взглядом. «Словно перепуганное животное, которое ищет выход!»— подумал Родни.


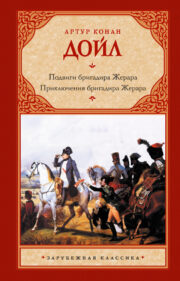



"Пропавшая весной" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пропавшая весной", автор: Агата Кристи. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пропавшая весной" друзьям в соцсетях.