Они шли, как два автомата, между мадонной и Голгофой. Она медленно сжала его руку.
— Вы пугаете меня,— сказал он,— но я нуждаюсь в вас... Наверное, мне нужно ощущать страх... чтобы презирать ту жизнь, которая у меня есть... Если бы я только был уверен, что вы не ошибаетесь!
— Уйдем отсюда.
Они прошли через пустые залы, разыскивая выход. Она нр выпускала его руки, а все сильнее за него цеплялась. Наконец они спустились по ступенькам и очутились, немного запыхавшиеся, у лужайки, на которой устремлялась к небу струя воды. Флавье остановился.
— Я спрашиваю себя: не сумасшедшие ли мы немного?.. Вы помните мои недавние слова?
— Да,— ответила Мадлен.
— Я признался, что люблю вас... Вы хорошо это слышали?
— Да.
— А если я буду повторять, что люблю, вы не рассердитесь?
— Нет.
— Это невероятно!!! Хотите еще пройтись?.. Нам так много нужно сказать друг другу.
— Нет... Я устала. Надо возвращаться!
Она казалась испуганной и была бледна.
— Я поймаю такси,— предложил Флавье,— но сначала примите маленький подарок.
— Что это такое?
— Откройте! Откройте!,
Она развязала узел, развернула пакет, положила на раскрытую ладонь портсигар с зажигалкой и покачала головой. Потом открыла портсигар и прочла слова на карточке.
— Мой бедный друг,— сказала она.
— Идемте!
Он увлек ее к улице Риволи.
— Не благодарите меня,— продолжал он. — Я знал, что вам нужна зажигалка... А мы увидимся завтра?
Она кивнула.
— Хорошо. Поедем за город... Нет, нет, ничего не говорите, оставьте меня с воспоминанием об этом дне... Вот и ваше такси... Дорогая Эвридика, вы не знаете, каким блаженством меня оделили.
Он взял ее руку и прижал свои губы к перчатке.
— Не смотрите больше назад,— сказал он, открывая дверцу такси.
Он был измучен физически и умиротворен, как в давние времена, когда целыми днями бродил по берегам Луары.
Глава 5
Все утро Флавье с нетерпением ждал телефонного звонка Мадлен. В два часа он побежал к их обычному месту свидания на площадь Этуаль. Она не пришла. Он позвонил Гевиньи, но тот уехал в Гавр и вернуться должен был только на следующее утро около десяти часов.
Флавье провел томительный день. Заснуть он не смог и до зари уже был на ногах, шагая по своему кабинету, и представлял разные трагические картины. Нет, с Мадлен ничего не могло случиться! Это невозможно! И между тем... Он сжимал кулаки, стараясь побороть панику. Никогда он не должен был признаваться в этом Мадлен. Они оба обманывали Гевиньи. Ведь тот доверял ему и передал Мадлен на хранение. Нужно покончить с этой бессмысленной историей. И поскорее!.. Но когда Флавье попытался представить себе жизнь без Мадлен, что-то сломалось в нем: он открыл рот и вынужден был прислониться к краю стола и спинке кресла. Он готов был проклинать бога, судьбу, фатальность, все, что называется этими словами, все приведшее его к таким ужасным обстоятельствам. Он всегда был изгнанником, отвергнутым даже войной! Он опустился в кресло, в котором сидел Гевиньи в день их первой встречи. А не преувеличено ли это несчастье? Чувство, настоящее чувство не может так развиться за две недели. Опершись подбородком на ладонь, он стал размышлять. Что ему известно о любви? Он никогда не любил никого. Но, конечно, всегда страстно желал счастья, как бедняк перед витриной. Однако между счастьем и ним стояло нечто холодное и твердое. И когда, наконец, он сделался инспектором, ему показалось, что теперь его жизнь будет предназначена для защиты этого мира, счастливого и радостного. Такая вот витрина... А Мадлен... нет... Он не имел права... Он не мог быть заодно с ворами. Тем хуже. Он откажется!.. Бедняга. Вот так, при первой же трудности спасовал. А Мадлен, может быть, уже готова была полюбить его,..
— Довольно! — громко проговорил он. — Пусть меня оставят в покое!
Он сварил очень крепкий кофе, чтобы взбодриться, и некоторое время проблуждал между кухней, кабинетом и спальней. Эта незнакомая боль, которая утвердилась в теле, в думах, мешала глубоко дышать, размышлять разумно, она действительно была любовью. Он чувствовал себя готовым на любые ошибки и глупости и был почти горд таким состоянием. Как мог он такое долгое время принимать столько людей в своем кабинете, вести столько дел, выслушивать столько признаний и ничего не понять, остаться глухим к правде? Он лишь пожимал плечами, когда клиент со слезами на глазах восклицал: «Ведь я люблю ее!» Ему хотелось сказать: «Послушайте, вы с вашей любовью заставляете меня смеяться. Ведь это только детская мечта, любовь! Что-то очень красивое, очень чистое, но неуловимое. Спальные дела меня не интересуют. Идиот!»
В восемь часов он все еще был в халате и в домашних туфлях, непричесанный, с чересчур блестящими глазами. Он так ничего и не решил. Звонить Мадлен было невозможно. Она запретила ему это из-за прислуги. К тому же, она просто могла не желать его больше видеть. Возможно, ей тоже было страшно, ей тоже...
Он равнодушно побрился, оделся. А потом вдруг понял, что обязательно должен срочно повидать Гевиньи. Неожиданно ему потребовалась уверенность в том, что по желанию Гевиньи он сможет снова видеться с Мадлен. И сквозь окружающий его плотный туман ему блеснул луч надежды. Он заметил, что через неподнятые занавески пробиваются солнечные лучи. Погасил электричество и впустил в кабинет свет дня. В нем возродилась надежда просто потому, что была чудесная погода и война еще не кончилась. Он вышел, оставил для уборщицы ключ от квартиры под ковриком, приветливо улыбнулся консьержке. Все теперь ему казалось легким, и он готов был смеяться над своими тревогами. Конечно, он не изменился. Он всегда останется подозрительным, меланхоличным, робким. У него никогда не бывало полнокровных дней отдыха, морального равновесия. Вместе с тем, около Мадлен... Он постарался изгнать Мадлен из своих мыслей, чтобы снова не впасть в панику. Париж был залит солнечным светом, и Флавье медленно пошел пешком. К десяти часам он подошел к конторе Гевиньи. Тот только что приехал.
— Устраивайся, старина... Я сейчас. Скажу несколько слов своему помощнику...
Гевиньи выглядел усталым. Через несколько лет у него будут мешки под глазами и дряблые морщинистые щеки. Пятидесятилетие его не украсит. Флавье расположился на стуле. Возвращаясь, Гевиньи дружески хлопнул его по плечу.
— Завидую я тебе, знаешь,— сказал он. — Я бы сам с удовольствием все дни тратил на то, чтобы сопровождать красивую женщину, особенно если бы она была моей... А я живу просто как бродяга.
— Она же бросается прямо в глаза!.. Твоя жена сумела описать мне местность, которую никогда не видела, но которую, вероятно, знала Полин Лагерлак... Подожди! Более того... она описывала арены не такими, какие они сейчас, а какими были сто лет назад.
Гевиньи нахмурил брови, пытаясь понять.
— И что же ты думаешь?
— Ничего,— ответил Флавье,— пока ничего... Это было настолько необычно!.. Полин и Мадлен...
— Да брось ты! — оборвал его Гевиньи. — Мы живем в двадцатом веке, и ты не можешь утверждать, что Полин и Мадлен... Признаю, Мадлен много собирала сведений о своей бабушке... Но это ведь можно объяснить. Потому-то я и просил тебя помочь мне. Если бы я мог предвидеть, что ты пойдешь...
— Я предлагал тебе прекратить это занятие.
Флавье почувствовал, как между ними возникла сильная напряженность. Он немного подождал и поднялся.
— Не буду больше отнимать у тебя времени...
Гевиньи покачал головой.
— Сейчас значение имеет только спасение Мадлен. Будет она больная, сумасшедшая, экзальтированная, мне наплевать. Пусть только живет.
— Она сегодня выйдет из дома?
— Нет.
— В таком случае когда же?
— Завтра непременно... А сегодня я последую твоему совету и проведу весь день с ней.
Флавье не дрогнул, но в нем поднялась волна ненависти. «Как же я могу его ненавидеть! — подумал он. — До чего это отвратительно!»
— Завтра...— сказал он. — Не знаю, буду ли я свободен завтра.
Гевиньи тоже встал, обошел вокруг письменного стола и дотронулся до руки Флавье.
— Прости,— вздохнул он,— я грубый, нервный. Но это не моя вина. Ты в к'онце концов заставишь меня окончательно потерять голову. Вот послушай, сегодня я хочу привести один эксперимент. Начну говорить и готовить ее к Гавру, только совершенно не представляю, как она это воспримет. Поэтому никаких сомнений и колебаний: завтра ты должен быть свободен, чтобы оберегать ее. Я настаиваю на этом. А потом вечером ты мне позвонишь или придешь сюда. И расскажешь обо всем, что в ней заметил. У меня полное доверие к твоему мнению. Решено?
Где Гевиньи научился говорить таким голосом, убедительным, прочувствованным?
— Да,— ответил Флавье.
Он негодовал на себя за это «да», которое предавало его во власть Гевиньи, лишало собственной инициативы.
— Спасибо... Я никогда не забуду того, что ты для меня сделал.
— Я убегаю,— стыдливо пробормотал Флавье. — Не беспокойся, я знаю дорогу.
И снова потекли его пустые, смертельно монотонные часы. Он не мог больше думать о Мадлен, не представляя себе Гевиньи возле нее, и от этого чувствовал определенную боль. Ну что он за человек? Предает Мадлен. Предает Гевиньи. Он подыхал от ревности и злобы, желания и отчаяния. Но все же сознавал себя чистым и уверенным. Он никогда не переставал быть порядочным человеком.

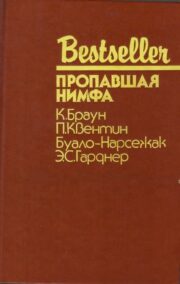



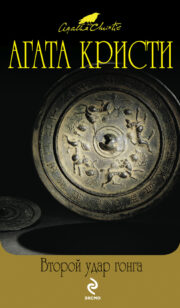
"Пропавшая нимфа" отзывы
Отзывы читателей о книге "Пропавшая нимфа", автор: Картер Браун. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Пропавшая нимфа" друзьям в соцсетях.