Зная, что ты не одобришь моего плана, я не рассказываю тебе о нем, а только сообщаю, что ухожу.
Прошу тебя, верь, что я люблю тебя так же сильно, как и всегда. Но я не выношу ссор. Знаю, что ты меня не одобряешь, не одобришь и то, что я намерена сделать. И не хочу обсуждать это с тобой. Я не хочу, чтобы дело дошло до откровенной ссоры, когда твоя воля и твои представления о приличиях столкнутся с моей волей и решимостью жить самостоятельно, по-своему. Поэтому, папа, я просто пишу это письмо, чтобы попрощаться с тобой.
Тысяча поцелуев.
Селби вложил письмо в конверт, взял другое, датированное 5 октября 1931 года, в котором было написано:
«Дорогой папа, с тех пор как я написала тебе последнее письмо, я много размышляла. Я начала понимать, что это значит – быть родителем. Не думаю, что смогу рассказать тебе все так, чтобы ты понял, а просто сообщаю, что ты можешь стать дедушкой, примерно на День благодарения. Не знаю, доставит ли тебе эта новость радость или, наоборот, огорчит. Наверное, и то, и другое.
Молодой человек, с которым я живу, не может на мне жениться из-за своей семьи. В письме слишком трудно все объяснить, да это и не имеет значения. Конечно, мы собирались пожениться, как только он уладит этот вопрос в семье. Он уехал месяц назад. Я все еще люблю его, но не хочу, чтобы он возвращался. Теперь я хорошо поняла его – это развращенный, эгоистичный, беспечный и никудышный человек.
По-видимому, моему ребенку предстоит трудная жизнь. Во-первых, ему придется жить без отца. Поэтому мне не хотелось бы лишать его и деда, но в одном я совершенно уверена: мое дитя никогда не будет подвергаться твоей непримиримой однолинейности, которая с детства исковеркала мое отношение к жизни.
Я не виню тебя в этом, папа, во всем повинно наше окружение. Однако у тебя есть своя точка зрения, которую я никогда не понимала, и знаю, что ты никогда не поймешь моей.
По-моему, кроме любви, людей ничто не может связывать. Когда двое людей по-настоящему и преданно любят друг друга, это именно тот союз, который им нужен. Когда мировой судья встает и бормочет перед молодоженами несколько слов из Библии, это не меняет отношений, существующих между ними. Я люблю этого человека. Не стану сообщать тебе его имя, потому что не вижу в этом смысла. Я думала, что он женится на мне. Даже думала, что сегодня уже смогу написать тебе, что я официально вышла замуж. И может быть, тогда ты захотел бы меня увидеть. Я же смотрю на свое положение так, как будто я была замужем и развелась.
Так что от тебя зависит, как поступить. Если ты хочешь меня видеть, если ты склонен считать, что крохотное существо, которому суждено вскоре родиться, имеет право на твою любовь, как если бы оно было рождено в законном браке, которому я не придаю такого значения, как ты, то помести в колонке личных посланий лос-анджелесских газет объявление. Я живу не в Лос-Анджелесе, но устрою так, чтобы узнать о твоем объявлении, если оно там появится.
Но, пожалуйста, пойми одно, папа. Не надо помещать этого объявления, если ты не готов все принять. Мое дитя – естественный результат отношений с мужчиной, в которые я вступила с полной верой и любовью. Если ты не в состоянии смотреть на мое дитя с этой точки зрения, не надо со мной связываться».
Третье письмо было отправлено в июле 1937 года.
«Дорогой папа, много воды утекло с тех пор, как я написала тебе последнее письмо. То, что ты так и не поместил объявление в газетах Лос-Анджелеса, показало мне, как ты смотришь на мою жизнь.
Мое дитя оказалось девочкой. Мне не хотелось отдавать ее чужим людям, которые удочерили бы ее, но некоторое время это казалось мне единственным выходом. Затем отец дочери согласился помогать ей. Благодаря этому я могла кое-как растить дочку, но это была ужасная жизнь. Я получала денег ровно столько, чтобы содержать ее. А чтобы прокормиться самой, мне пришлось много работать. Я виделась с дочуркой изредка, и то на короткое время. Я ее мать и в то же время – просто посетительница. Ее настоящий дом – школа, в которой она живет, ее растят учителя, знающие о ней все, все самые личные моменты ее жизни. Мне же известна только малая их часть, и то из вторых рук. Когда я прихожу к дочке, это называется посещением школы матерью.
Короче говоря, папа, я практически лишена дочери и недавно поняла, что вот так же лишила и тебя твоей дочери. Теперь я понимаю, что эта потеря нанесла тебе сильную травму, потому что то, что происходит с моей дочкой, бесконечно ранит и терзает меня. Но я также знаю, что ты никогда бы не признал ее. Ты даже не попытался бы меня понять. Скоро я хочу приехать к тебе, папа, и тогда мы поговорим. В отношении одного я совершенно уверена. Ты никогда не увидишь своей внучки, если не станешь справедливо к ней относиться. Что же касается меня, для меня не имеет особенного значения, как ты ко мне относишься, но я действительно очень хочу тебя видеть, папа. Интересно, хочешь ли ты этого? Во всяком случае, не удивляйся, если я вдруг появлюсь у тебя на днях. Ехать мне придется довольно далеко, и нужно еще накопить денег на дорогу.
Тысяча поцелуев от твоей своенравной дочери.
Селби почти благоговейно сложил письмо и убрал его в потертый конверт.
– Сложная штука жизнь, Гарри! – сказал он. – Часто люди ощупью бредут по ней, пытаясь делать то, что правильно, стремясь найти счастье, а их отталкивают из-за непонимания.
Подумай, например, об этом человеке. Он очень любил свою дочь, так бережно хранил ее письма. Одиночество угнетало и разъедало его душу. Он носил эти письма с собой, вероятно, перечитывал их бессчетное количество раз, пока строки не поблекли и уже трудно стало разбирать слова. И вместе с тем не мог заставить себя простить дочь. Прояви он хоть немного душевной теплоты, чуть больше человеческого понимания и сострадания – и они могли быть счастливы. Могли бы жить вместе: дедушка работал бы, помогал бы семье, ребенок жил бы с матерью… Гарри, нам нужно найти эту женщину, надеюсь, ее отец оставил достаточно денег, чтобы она могла растить свое дитя.
– Не похоже, чтобы у него были деньги, – возразил коронер. – Одежда на нем довольно поношенная, правда, в кошельке есть деньги, но их не хватит даже на его похороны.
– Мы видели его вчера на дороге, – сообщил Селби. – Он ездил по стране на попутных машинах. Рекс Брэндон хотел забрать его за бродяжничество, но…
– Вы узнали, кто он такой? – перебил Перкинс.
– Он сказал, что его зовут Эмил Уоткинс.
– Так вот, при нем не было ничего, что доказывало бы это, – заявил коронер. – Все, что было у него в карманах, лежит в этой коробке.
Прокурор молча, одну за другой принялся рассматривать лежащие в ней вещи. Наконец произнес:
– Странно, Гарри! При нем не было ключей.
– Вот то-то и оно! – откликнулся коронер. – Ты только подумай: нож был, карандаш был, бумажник был, а ключей – нет!
– Если задуматься, – медленно проговорил Селби, – то это представляется значительным фактом, выразительной чертой, характеризующей личность. У человека нет ключей, значит, ему некуда было приходить, у него не было дома…
– Да уж, – беззаботно отозвался Перкинс, – в наши дни у многих нет дома… Слушай, Дуг, я тебе не рассказывал, как поймал ту громадную форель как раз в том месте, где река раздваивается на два рукава? Помнишь, я говорил тебе, что там точно живет эта рыбина? Она клюнула на приманку, а потом, когда сорвалась, ушла на дно и там затаилась. Я был там с двумя моими приятелями. Помнишь, я тебе рассказывал?
Селби кивнул.
– Так вот, – торжествующе объявил Перкинс, – я вернулся и все-таки поймал ее! Рыбина была потрясающая! Весила два с половиной фунта, и… это только вопрос самолюбия, Дуг… Но представь, я поймал ее на ту же приманку, как и в тот раз, когда упустил. Она… – Он остановился, услышав звонок в дверь, за которым последовали удары кулаком, и пожаловался: – Вот так они всегда, Дуг! Раз на дворе темно, им недостаточно просто позвонить, обязательно нужно барабанить в дверь! А днем все звонят и терпеливо ждут, когда им откроют.
Он направился в коридор, и вскоре Брэндон подтолкнул в комнату перепуганных Каттингса и Глисона.
– Выяснил что-нибудь? – спросил Селби у шерифа.
Брэндон отрицательно покачал головой. Селби объявил:
– Молодые люди, мне нужно, чтобы вы посмотрели на мертвого человека.
Юноши подавленно молчали. Глисон дрожал, постукивая зубами.
– Встаньте поближе к обогревателю, – предложил им прокурор, – согрейтесь немного.
– Я бы предпочел поскорее с этим закончить, – промямлил Глисон.
– Хорошо, – согласился Селби, – пойдемте.
Торжественной, молчаливой процессией они прошли по длинному коридору в морг, где коронер отдернул простыню, обнажив лицо человека. Плотно сжав губы, Глисон посмотрел на мертвеца и поспешно отвернулся.
– Знаете его? – спросил прокурор.
Оба юноши отчаянно затрясли головами.
– Посмотрите как следует, – потребовал Селби. – Попытайтесь представить его живым, с открытыми глазами, стоящим на ногах. Ну же, ребята, он вам не навредит!
Юноши взглянули еще раз и снова отвернулись.
– А давно ли вы виделись с Марсией Уоткинс? – небрежно поинтересовался Селби.
Это имя не произвело на них никакого впечатления.
– Я не знаю никакой Марсии Уоткинс, – заявил Каттингс.
– Я тоже, – сказал Глисон.
– Как мог этот человек оказаться в вашем домике? – спросил прокурор.
Каттингс возмутился:
– Послушайте, мистер Селби, я ничего от вас не скрываю. Не могу себе этого представить. Понятия не имею, что он у нас делал. И не знаю, как он туда попал. Все это совершенно неожиданно и непонятно для меня.
Селби сказал:
– Ладно, ребята, я не собираюсь вас задерживать, но вы должны мне обещать, что, если я вам позвоню и попрошу явиться в Мэдисон-Сити, вы немедленно приедете. Обещаете?

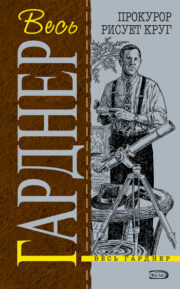

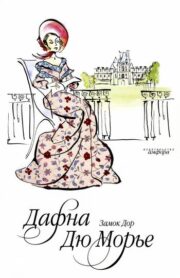

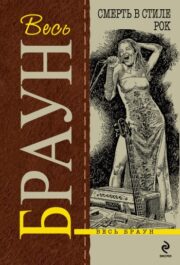
"Прокурор держит свечу" отзывы
Отзывы читателей о книге "Прокурор держит свечу", автор: Эрл Стенли Гарднер. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Прокурор держит свечу" друзьям в соцсетях.