Честертон Гилберт Кийт
Происшествие в Боэн Биконе
Гилберт Кит Честертон
Происшествие в Боэн Биконе
Деревенька Боэн Бикон пристроилась на крутом откосе, и высокий церковный шпиль торчал, как верхушка скалы. У самой церкви стояла кузница, где все полыхало и лязгало; а напротив, у скрещения булыжных улочек, действовал один на всю деревню кабак "Синий боров". На этом-то перекрестке в свинцово-серебряный рассветный час встретились два брата: один восстал ото сна, а другой еще не ложился.
Преподобный и досточтимый Уилфрид Боэн был человек набожный и шел предаться молитве и созерцанию. Его старшему брату, достопочтенному полковнику Норману Боэну, было не до набожности: он сидел в смокинге на лавочке возле "Синего борова" и выпивал не то напоследок, не то для начала - это уж как на чей философский взгляд. Сам полковник в такие тонкости не вдавался.
Боэны были настоящие, древние аристократы крови, и предки их и вправду воевали в Палестине. Только не нужно думать, что рыцарями рождаются. Рыцарство - удел бедняков. Знати благородные заветы нипочем, их дело мода. Боэны были элегантными бандитами при королеве Анне и жеманными вертопрахами при королеве Виктории. Словом, они, по примеру других знатных родов, за последние два столетия стали порослью пропойц и щеголеватых ублюдков, а был такой шепоток, что и вовсе посвихивались. И то сказать, полковник был сластолюбив не по-людски, а скорее по-волчьи: он без устали рыскал по ночам, одержимый какой-то гнусной бессонницей. У этого крупного, породистого пожилого животного были светло-желтые волосы, не тронутые сединой. Его бы назвать белокурым, с львиной осанкой; только синие глаза его запали так глубоко, что стали черными щелками. К тому же они были чересчур близко поставлены. Его висячие желтые усы были очерчены косыми складками от ноздрей к подбородку: ухмылка словно врезана в лицо. Поверх смокинга он натянул светлое халатообразное пальто, а странную широкополую шляпу ярко-зеленого цвета и какого-то восточного вида сбил на затылок. Он явно красовался своим нелепым нарядом; он ведь был ему вполне к лицу.
Его преподобный брат тоже имел аристократическую осанку и желтые волосы, но одет был в черное, застегнут наглухо и свежевыбрит: в чертах его сказывались ум и нервность. Он словно бы только и жил, что своей религией; но говорили о нем (особенно сектант-кузнец), что не бог ему нужен, а старинная архитектура, потому-то он, мол, и бродит по церкви призраком, что церковь ему - все равно что брату вино и женщины, та же заразная прелесть, только что изысканная, а в общем, одно и то же. Мало ли что говорили, но набожность его все-таки была неподдельная. Надо думать, что людям попросту невдомек была его тяга к уединению и молитве, странно было вечно видеть его на коленях - и не то что пред алтарем, а где-нибудь на хорах, галереях или вовсе на колокольне. Он как раз и шел в храм задним двором кузницы, но остановился и нахмурился, увидев, куда исподлобья поглядывает брат. Не на церковь, конечно, - это и думать было нечего. Стало быть, на кузницу, и хотя кузнец со своей особой религиозностью был не из его паствы, все же Уилфрид Боэн слышал про его красавицу жену много разных историй и не мог пройти мимо. Он посмотрел, нет ли кого за сараем, а полковник встал и рассмеялся.
- Доброе утро, Уилфрид, - сказал он. - Народ мой спит, а я, видишь, на ногах.
Вот кузнеца хочу навестить.
Уилфрид опустил взгляд и сказал:
- Кузнеца нет. Он ушел в Гринфорд.
- Знаю, - беззвучно хохотнул полковник. - Визит ко времени.
- Норман, - сказал священник, уткнувшись взглядом в дорожный гравий, а ты грома не боишься?
- Грома? - переспросил тот. - Ты что, у нас погоду теперь предсказываешь?
- Да нет, - сказал Уилфрид, не поднимая глаз, - не погоду, а как бы тебя громом не поразило.
- Ах, прошу прощения, - сказал полковник. - Я и забыл, ты ведь у нас сказочник.
- А ты у нас, конечно, богохульник, - отрезал задетый за живое священнослужитель. - Что ж, бога не боишься, так хоть человека остерегись.
Старший брат вежливо поднял брови.
- Какого то есть человека? - спросил он.
- На сорок миль в округе, - жестко сказал священник, - некому тягаться силой с кузнецом Барнсом. Я знаю, ты не из трусливых и за себя постоять можешь, только смотри, плохо тебе придется.
Это были отнюдь не пустые слова, и складки у рта полковника обозначились резче.
Его вечная ухмылка стала угрюмой. Но он тут же снова обрел свою свирепую веселость и рассмеялся, оскалив из-под желтых усов крепкие песьи клыки.
- Ты прав, любезный Уилфрид, - беспечно сказал он, - так порадуйся же, что последний мужчина в нашем роду надел кой-какой ратный доспех.
Он снял свою нелепую шляпу, и ее круглая тулья оказалась легким стальным шлемом в зеленой обшивке, китайским, не то японским. Уилфрид узнал фамильный трофей со стены гостиной.
- Какая подвернулась, - небрежно пояснил брат. - У меня со шляпами так же, как и с женщинами.
- Сейчас кузнец в Гринфорде, - тихо сказал Уилфрид, - но вернуться может в любую минуту.
Он побрел в церковь. Скорей бы забыть об этой мерзости в прохладном сумраке, под готическими сводами; но в то утро все шло не по-обычному, всюду что-нибудь подстерегало. В такой час церковь всегда бывала пуста, а тут вдруг кто-то в глубине вскочил с колен и заспешил из полутьмы на залитую светом паперть.
Священник едва поверил глазам: этот ранний богомолец был деревенский идиот, племянник кузнеца, и ему явно нечего было делать в церкви, как и вообще на белом свете. Жил он без имени, с прозвищем Джо-дурачок; это был дюжий малый, сутулый и чернявый, лицо тестяное, рот вечно разинут. Он прошагал мимо священника, и по его дурацкой физиономии никак нельзя было понять, что он делал, о чем думал в церкви. В жизни его никто здесь не видел. Что у него могли быть за молитвы? Даже представить себе трудно.
Уилфрид Боэн стоял неподвижно и глядел, как идиот вышел на солнце, потом, как его беспутный брат приветствовал дурачка с издевательским дружелюбием, наконец, как полковник принялся швырять медяки в разинутый рот Джо и, кажется, в самом деле примерялся попасть.
От этой яркой уродливой картины земной глупости и грубости он обратился к молитве об очищении своей души и обновлении помыслов. Он углубился в галерею и прошел к любимому цветному витражу с белым ангелом, который всегда проливал покой в его душу. Здесь перед его глазами постепенно померкло одутловатое лицо слабоумного с разинутым по-рыбьи ртом. Здесь он постепенно отвлекся от мыслей о нераскаянном брате, который метался, как зверь за решеткой, снедаемый скотской похотью.
Там его через полчаса и нашел деревенский сапожник Гиббс, наспех посланный за ним. Он быстро поднялся с колен: он знал, что Гиббс не явился бы ни с того ни с сего. Как во многих деревнях, здешний сапожник в бога не верил и в церкви бывал не чаще дурачка Джо. Дурачок еще мог забрести невзначай, но это явление сбило бы с толку любого богослова.
- В чем дело? - довольно строго спросил Уилфрид Боэн и встревоженно потянулся за шляпой.
Местный безбожник ответил на удивление уважительно, с какой-то даже смутной симпатией.
- Уж не взыщите, сэр, - сказал он хрипловатым полушепотом, - но мы решили вас потревожить. Тут, в общем, довольно жуткое дело приключилось. Ваш, в общем, брат:
Уилфрид с хрустом стиснул руки.
- Ну, что он еще натворил? - почти выкрикнул он.
- Да как бы вам сказать, сэр, - кашлянув, сказал сапожник. - Он в общем-то ничего такого не сделал: и уж не сделает. Вообще-то он мертвый. Надо бы вам туда пойти, сэр.
Уилфрид спустился следом за сапожником по короткой винтовой лестнице к боковому выходу на пригорок над улицей. Отсюда все было ясно, как на сцене. Человек пять-шесть стояли во дворе кузницы, все в черном, кроме полицейского инспектора.
Был там доктор, был пастор и патер из окрестной католической церкви, куда ходила жена кузнеца. Сама она, видная, золотисто-рыжая женщина, заходилась от плача на лавочке, а патер ей что-то вполголоса быстро втолковывал. Посредине, возле самой кучи молотков, простерся ничком труп в смокинге. Уилфрид с первого взгляда узнал все, вплоть до фамильных перстней на пальцах; но вместо головы был кровавый сгусток, запекшийся черно-алой звездой.
Уилфрид Боэн, не мешкая, кинулся вниз по ступенькам. Доктор был их семейным врачом, но Уилфрид не ответил на его поклон. Он еле выговорил:
- Брата убили. Что здесь было? Как ужасно, как непонятно:
Все неловко молчали, и только сапожник высказался с обычной прямотой:
- Ужасно - это да, сэр, только чего тут непонятного, все понятно.
- Что понятно? - спросил Уилфрид, и лицо его побелело.
- Куда уж яснее, - отвечал Гиббс. - На сорок миль в округе только одному под силу эдак пристукнуть человека. А почему пристукнул - опять же ясно.
- Не будем судить раньше времени, - нервно перебил его высокий, чернобородый доктор. - Впрочем, что касается удара, то мистер Гиббс прав удар поразительный. Мистер Гиббс говорит, что это только одному под силу. Я бы сказал, что это никому не под силу.
Тщедушный священник вздрогнул от суеверного ужаса.
- Не совсем понимаю, - сказал он.
- Мистер Боэн, - вполголоса сказал доктор, - извините за такое сравнение, но череп попросту раскололся, как яичная скорлупа. И осколки врезались в тело и в землю, словно шрапнель. Это удар исполина.
Он чуть помолчал, выразительно поглядел сквозь очки и добавил:
- Хотя бы лишних подозрений быть не может. Обвинять в этом преступлении меня или вас, вообще любого заурядного человека - все равно, что думать, будто ребенок утащил мраморную колонну.
- А я что говорю? - поддакнул сапожник. - Я и говорю, что кто пристукнул, тот и пристукнул. А где кузнец Симеон Барнс?
- Но он же в Гринфорде, - выдавил священник.



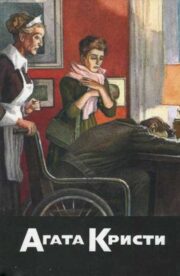

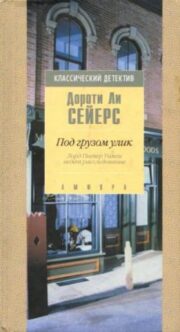
"Происшествие в Боэн Биконе" отзывы
Отзывы читателей о книге "Происшествие в Боэн Биконе", автор: Гилберт Кийт Честертон. Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Происшествие в Боэн Биконе" друзьям в соцсетях.