– Нам нечего бояться, кроме люков. Мне не разрешено видеться с вами вне Оперы. Сейчас не время раздражать его. Мы не должны возбуждать у него подозрений.
– Кристина! Кристина! Что-то говорит мне, что мы делаем ошибку, дожидаясь завтрашней ночи, мы должны бежать сейчас же.
– Если Эрик не услышит меня завтра, это причинит ему сильную боль., – Будет трудно уйти от него навсегда, не причинив ему боли.
– Вы правы, Рауль, я уверена, мое бегство убьет его. – Помолчав, она добавила приглушенным голосом: – Но, по крайней мере, это равная игра: есть шанс, что он убьет нас.
– Тогда он действительно любит вас?
– Да, достаточно, чтобы не остановиться ни перед чем, даже перед убийством.
– А возможно ли найти место, где он живет, и пойти туда. Поскольку он не призрак, ведь можно с ним поговорить и даже заставить его ответить.
Кристина покачала головой:
– Нет, против Эрика ничего нельзя сделать. От него можно только убежать!
– Тогда почему, если вы могли убежать от него, вы вернулись обратно?
– Потому что должна была сделать это. Вы поймете это, узнав, как я покинула его дом.
– О, я ненавижу его! – закричал Рауль. – А вы, Кристина? Скажите мне… Скажите мне это, чтобы я смог дослушать конец этой невероятной истории. Вы его тоже ненавидите?
– Нет, – ответила она просто.
– Тогда почему вы говорите все это? Вы, очевидно, любите его, и ваш страх, ваш ужас – все это любовь особого рода. Рода, которого вы не допускаете, – с горечью произнес Рауль. – Любовь, которая вызывает нервную дрожь, когда вы думаете о ней. Можно представить – мужчина, который живет в подземном дворце. – И он засмеялся презрительно.
– Вы хотите, чтобы я вернулась? – спросила она резко. – Будьте осторожны, Рауль. Я уже сказала, что если опять окажусь там, то обратно не вернусь никогда.
Воцарилась напряженная тишина.
– Прежде чем я отвечу, – сказал наконец Рауль медленно, – я хотел бы знать, какие чувства вы испытываете к нему, поскольку вы не ненавидите его.
– Ужас! – воскликнула Кристина и произнесла это слово так громко, что оно утонуло в воздухе ночи. – Это самое худшее, – продолжала она с растущей напряженностью, – он страшит меня, но я не ненавижу его. Да и как я могу ненавидеть его, Рауль? Представьте, каким он был, на коленях, в своем подземном доме у озера. Он обвинял, проклинал себя, просил меня простить его. Он признался в обмане. Сказал, что любит меня. Он положил к моим ногам свою огромную, трагическую любовь. Он похитил меня из-за любви, но он уважал меня, раболепствовал передо мной, он жаловался, плакал. И когда я встала и сказала ему, что могу лишь презирать его, если он немедленно не вернет мне свободу, я была удивлена, услышав от него предложение: я могу уйти, когда мне захочется. Он хотел уже показать мне таинственную тропинку. Но он тоже встал, и тогда я поняла, что, хотя он не ангел, дух или привидение, он все же Голос, потому что он запел! И я стала слушать», и осталась.
Мы ничего не сказали больше друг другу в тот вечер. Он взял арфу и начал петь мне любовную песню Дездемоны. Моя память, напомнившая мне, как пела ее я сама, заставила меня устыдиться. Музыка обладает магической силой устранять все во внешнем мире, за исключением звуков, которые проникают прямо в сердце. Мое странное приключение было забыто. Голос опять пробудил меня к жизни, и я следовала за ним, восхищенная, в его гармоническое путешествие. Я принадлежала к семье Орфея! Я прошла через горе-радость, мученичество, отчаяние, блаженство, смерть, триумфальные свадьбы. Я слушала. Голос пел. Он пел какие-то незнакомые мелодии, и эта музыка создавала странное впечатление нежности, томления и покоя, волновала душу, постепенно успокаивая ее, вела на порог мечты. Я заснула.
Проснулась я в кресле в простой маленькой спальне с обычной кроватью из красного дерева. Комната была освещена лампой, стоявшей на мраморной вершине старого, времен Луи-Филиппа, комода. Где я теперь? Я провела рукой по лбу, будто хотела отогнать дурной сон. К сожалению, не потребовалось много времени, чтобы понять: я не сплю. Я была заключенной и из спальни могла выйти только в очень уютную ванную с горячей и холодной водой. Вернувшись в спальню, я увидела на комоде записку, написанную красными чернилами. Если у меня и были какие-либо сомнения относительно реальности того, что произошло, эта записка полностью их развеяла.
«Моя дорогая Кристина, – говорилось в ней, – вы не должны беспокоиться о вашей судьбе. В мире у вас нет лучшего или более уважающего вас друга, чем я. В настоящее время вы в этом доме одни, в доме, который принадлежит вам. Я ушел сделать кое-какие покупки и, вернувшись, принесу простыни и другие личные вещи, которые вам, возможно, понадобятся».
«Совершенно ясно, я попала в руки сумасшедшего! – сказала я себе. – Что станет со мной? Как долго этот негодяй намеревается держать меня в этой подземной тюрьме?» Я бегала по комнате в поисках выхода, но не нашла его. Я горько упрекала себя за глупое суеверие и невинность, с которой я приняла Голос за Ангела музыки, когда слышала его через стены моей артистической комнаты. Любой, позволивший себе подобную глупость, мог ожидать ужасных катастроф и знать, что полностью заслужил их. Я чувствовала себя так, словно исхлестала сама себя. Я смеялась и плакала одновременно. Именно в таком состоянии нашел меня Эрик, когда вернулся.
Постучав три раза о стену, он спокойно вошел через дверь, которую я не смогла обнаружить. В руках у него был ворох коробок и пакетов. Он не спеша положил их на кровать, пока я ругала его и требовала, чтобы он снял свою маску, если по-прежнему утверждает, что она скрывает лицо благородного человека. Он ответил с большим самообладанием: «Вы никогда не увидите лица Эрика».
Затем Эрик сделал мне выговор за то, что я до сих пор еще не умылась и не причесалась, и соизволил проинформировать меня, что уже два часа пополудни. Он дает мне полчаса, сказал он, заводя часы, и затем мы пойдем в столовую, где нас ждет отличный завтрак. Я была голодна. Хлопнув дверью, я пошла в ванную комнату, приняла ванну, предусмотрительно положив рядом с собой ножницы: я решила убить себя, если он вдруг перестанет вести себя как благородный человек.
Холодная вода в ванне улучшила мое состояние. Я благоразумно решила больше не оскорблять Эрика, даже польстить ему, если необходимо, в надежде, что он, возможно, скоро освободит меня. Эрик сказал, что хочет успокоить меня, рассказав о своих планах в отношении меня. Он слишком наслаждался моим обществом, чтобы лишить себя его немедленно, как сделал это накануне, увидев на моем лице выражение страха и возмущения. Я должна понять, сказал он, что нет никаких оснований бояться его. Он любит меня, но будет говорить об этом только тогда, когда я разрешу это. Остальное время мы будем уделять музыке.
«Что вы имеете в виду под остальным временем?» – спросила я. – «Пять дней», – ответил Эрик. – И после этого я буду свободна?» – «Вы будете свободны, Кристина, потому что за эти дни вы научитесь не бояться меня, и тогда вы вернетесь, чтобы увидеть вновь бедного Эрика».
Он сказал эти последние слова тоном, который глубоко тронул меня. Мне послышалось в нем такое отчаяние, что я посмотрела на прикрытое маской лицо своего похитителя с состраданием. Я не могла видеть за маской его глаза, и это усиливало странное чувство тревоги, возникшее у меня, особенно когда я заметила одну, две, три, четыре слезы, сбежавшие вниз на край его плаща из черного шелка.
Эрик жестом пригласил меня к столику в центре комнаты, где прошлой ночью играл для меня на арфе. Я села, чувствуя себя сильно обеспокоенной, но с аппетитом съела несколько раков и куриное крылышко, запивая все это токайским вином, которое он лично привез из подвалов Кенигсберга, которые часто посещал Фальстаф. Однако сам Эрик не ел и не пил. Я спросила, какой он национальности и означает ли имя Эрик, что он скандинавского происхождения. Он ответил, что у него нет ни имени, ни родины и что он взял это имя случайно. Я поинтересовалась, почему, если он любит меня, он не нашел другого способа сообщить мне это, кроме как забрав в подземелье и заключив в тюрьму.
– «Очень трудно заставить любить себя в могиле», – сказала я.
«Приходится довольствоваться тем, что можешь получить», – ответил он странным тоном.
Затем он встал и взял меня за руку, потому что хотел, сказал он, показать мне свое жилище. Но я с криком отдернула свою руку: то, к чему я прикоснулась, было влажным и костистым, и я вспомнила, что он его рук веяло смертью.
«О, простите меня», – простонал Эрик. Он открыл передо мной дверь: «Это моя спальня. Здесь довольно любопытно» Хотите посмотреть?» Я не колебалась. Его манеры, слова – все говорило мне, что ему можно доверять. Я чувствовала: мне нечего бояться.
Я вошла. Мне показалось, что я вступила в похоронную комнату. Стены были завешены черным, но вместо белых прорезей, которые обычны для похоронных портьер, на них было огромное количество музыкальных фраз и нот из Dies Jrae. В центре комнаты под балдахином из красной парчи стоял открытый гроб. При виде его я отпрянула.
«Я сплю в нем, – сказал Эрик. – Мы должны привыкать ко всему в жизни, даже к вечности». Гроб произвел на меня зловещее впечатление. Отвернувшись, я заметила клавиатуру органа, который занимал целую стену. На подставке стояли ноты с красными пометками. Я попросила разрешения взглянуть и прочитала заглавие на первой странице: «Торжествующий Дон Жуан».
«Да, я иногда сочиняю, – пояснил Эрик. – Я начал эту работу двадцать лет назад. Когда закончу, я возьму ее с собой в этот гроб и не проснусь».
«Тогда вы должны работать над этим как можно медленнее», – сказала я.
«Иногда я работаю две недели подряд, днем и ночью, и в это время живу только музыкой. Затем несколько лет отдыхаю».


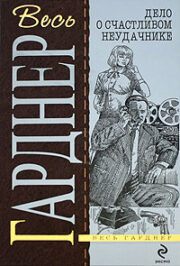


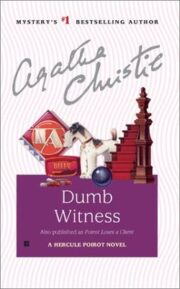
Захватывающее чтение для всех возрастов!
Захватывающие персонажи и их приключения!
Прекрасное произведение Гастона Леру!
Очаровательная история о любви и предательстве!
Удивительное путешествие в мир музыки и магии!
Незабываемое чтение для всех любителей хорошей литературы!