Странно, милые дети, наблюдать, как бесплотная мысль приобретает видимую форму и порождает страшные, трагические события. С одной стороны король-богослов, размышляющий о том, что ересь и что не ересь, а с другой шесть тысяч решившихся на все людей. Этих людей травят, гонят с места на место, и они наконец оказываются окруженными со всех сторон в холодных болотах Бриджуотера. Сердца этих людей окаменели и ожесточились: Это не люди, а затравленные звери. Горе тем народам, короли которых занимаются богословием!
Но бедные люди, о которых я вам говорю, защищали великую идею. Можно ли сказать то же самое о человеке, который стоял во главе их? Увы! Как жаль, что таким людям был дан такой вождь! Сегодня Монмауз был самонадеян и самоуверен, завтра же он обратился к полному отчаянию, сегодня он сулил своим приближенным места членов Государственного совета, завтра он собирался бежать от своей армии в Голландию. Им словно владел сам: дух непостоянства.
И однако у Монмауза, перед тем как он стал во главе восстания, было хорошее имя. В Шотландии он составил себе замечательную репутацию. Его хвалили не только за одержанные им победы, но и за — милосердие, которое он проявил к побежденным. На материке Европы ему пришлось командовать английской бригадой, и он командовал ею так, что заслужил похвалы лучших полководцев Людовика и императора. Но стоило Монмаузу взяться за свое собственное дело и поставить на ставку свою собственную карьеру и голову, и он оказался слабым, нерешительным и трусливым человеком. Вся его доблесть оставила его. Я всегда плохо верил в Монмауза. Бывало, я видел его во время похода. Едет он на своем красивом коне, свесив голову на грудь, а на лице его ясно читается отчаяние. Было очевидно, что этот человек, если даже добьется королевского трона, на нем не удержится: Куда такому человеку носить корону Плантагенетов и Тюдоров? Да у него эту корону его же собственные генералы отнимут.
Впрочем, я должен отдать справедливость Монмаузу. Он стал гораздо бодрее и проявил даже мужество после того, как решено было сразиться с неприятелем. Другого исхода, впрочем, и не было. Но так или иначе Монмауз изменился к лучшему. Были пущены в ход все средства, чтобы ободрить войска и приготовить их к решительному бою. Все дни с утра до вечера мы проводили в работе, обучая наших пехотинцев бою в сомкнутом строю и отражению конных атак. Все боевые тонкости были постигнуты нами и переданы солдатам. Ночью же все улицы города, начиная с Дворцового
Поля и кончая Партетским мостом, звенели проповедью, молитвами и пением гимнов. За порядком офицерам следить не приходилось, так как солдаты сами поддерживали порядок и наказывали виновных. Одного солдата, появившегося на улице в нетрезвом виде, товарищи чуть не повесили. В конце концов жизнь его удалось спасти, но он был прогнан из армии, ибо товарищи находили, что он, как пьяница, недостоин защищать святое дело свободы совести. Возбуждать в наших людях храбрость и мужество было также излишне. Они были бесстрашны, как львы, и если приходилось за что опасаться, так это за то, чтобы храбрость не завела их слишком далеко. Солдаты помышляли о том, чтобы обрушиться на врага сразу, подобно орде фанатичных мусульман. Извольте обучать таких горячих молодцов и приглашать их к осторожности, без которой воевать нельзя.
На третий день нашего пребывания в Бриджуотере стал обнаруживаться недостаток в провизии. Вся окрестная страна была опустошена; и кроме того, мы были окружены неприятельской конницей, которая рыскала повсюду и портила нам пути сообщения. Вследствие этого лорд Грей приказал однажды двум конным ротам выехать ночью на фуражировку. Начальствование над этим маленьким отрядом было поручено майору Мартину Гукеру, старому лейб-гвардейцу. Это был грубый служака, любивший выражаться кратко и бесцеремонно, но великолепно обучавший подчиненных военному искусству. Мы с сэром Гервасием отправились к лорду Грею и просили у него разрешения присоединиться к отряду. В городе было делать нечего, и поэтому лорд Грей нам охотно разрешил уехать с Гукером.
Выехали мы из Бриджуотера около одиннадцати часов вечера в темную, безлунную ночь: Цель наша была произвести разведку в местности между Боробриджем и Ательнеем. Нам было известно, что в этой части больших неприятельских сил не имеется, а между тем местность эта была плодородная, и мы надеялись добыть там провианта. С собой мы взяли четыре пустые телеги, которые нужно было нагрузить тем, что нам удастся добыть. Телеги были поставлены, по распоряжению командира отряда, между двумя ротами. Маленький передовой отряд, под командой сэра Гервасия, ехал в нескольких стах шагах впереди. В этом порядке мы и проскакали по улицам города. Испуганные обыватели выглядывали в окна и двери, прислушиваясь к звукам рогов.
Очень хорошо помню я эту ночную экспедицию. Помню я ветви ив, тянувшиеся к нам и похожие на руки великанов, помню я тихий стон ночного ветра и неясные фигуры всадников. Копыта лошадей издавали глухой шум, ножны палаша цеплялись за стремена. Все эти подробности мне вспоминаются с замечательной отчетливостью.
Мы с баронетом ехали рядом впереди. Сэр Гервасий весело болтал, вспоминая свою жизнь в Лондоне, цитируя по временам стихи Коолея и Уоллера. Я был в угнетенном состоянии духа, и болтовня товарища меня развлекала.
Сэр Гервасий, вдыхая в себя свежий деревенский воздух, говорил:
— Только в такую ночь и понимаешь, что жизнь есть жизнь. Черт меня возьми, но я вам завидую, Кларк. Вы родились и воспитались в деревне. Скажите, разве может дать город человеку такие- наслаждения? И заметьте, природа дает вам всю эту благодать даром. В деревне отлично жить, если поблизости есть парикмахер, торговец нюхательным табаком, продавец духов и один-два сносных портных. Прибавьте сюда еще хороший ресторан и игорный дом, и я, честное слово, соглашусь вести мирную деревенскую жизнь.
Я засмеялся и ответил:
— А мы, деревенщина, воображаем, что настоящая жизнь, жизнь мудрости и знания, сосредоточена в городах.
— Ventre saint — gris! А какую мудрость и знание приобрел я, живя в столице? — ответил сэр Гервасий. — Но, по правде говоря, я прожил в эти последние недели гораздо больше, чем всю предыдущую жизнь, и научился большему. Мне больше нравится мокнуть под дождем с моими оборванцами, чем состоять пажом при дворе и делать себе карьеру. Обидно жить так, как живут там. Никаких высоких целей и задач, и весь твой ум уходит на то, чтобы сочинить ловкий комплимент или выучиться танцевать «корранто». Да, кстати. Я считаю себя многим обязанным вашему приятелю, старому плотнику. Правильно он сказал в своем письме, что человек должен развить все имеющиеся у него хорошие качества и применить их к делу. Если человек этого не делает, то цена ему меньше, чем курице. Курица, если закудахтала, то, по крайней мере, яйцо снесет, а какая польза от кудахтающих людей? Они только болтают и ничего не делают. Ваш старый плотник мне открыл целый новый мир!
— Но, — сказал я, — ведь вы же были богатым человеком и, конечно, принесли кому-нибудь пользу. Невозможно, чтобы человек истратил такое громадное состояние и чтобы этим никто не воспользовался.
Сэр Гервасий весело расхохотался и воскликнул:
— О, мой милый Михей! Вы удивительно первобытный человек. Всякий раз, как речь заходит о прожитом мною состоянии, вы начинаете говорить как-то благоговейно и даже голос понижаете. Точно я прожил богатства всей Индии. Ах, мой милый, вы не имеете никакого понятия о жизни. Вы не знаете, что у денежных мешков вырастают крылья и они улетают. Ну да, конечно, человек, проживающий свое состояние, не глотает своих денег, а дает их другим, которые пользуются ими. Но моя ошибка именно в том и состояла, что я не отдавал свои деньги туда, куда было нужно. Мое состояние перешло не к порядочным людям, а к бесполезной и подлой дряни. О, я часто вспоминаю о толпе попрошаек, нищих, развратников, сводников, наглецов, буянов, льстецов и подлецов! Весь этот люд я кормил. Своими деньгами я увеличивал эту шайку. Мои деньги сделали такое зло, которое нельзя исправить никакими деньгами. Каждое утро, бывало, человек тридцать этой сволочи являлись на мой утренний прием и низкопоклонничали около моей постели.
— Как это так, около вашей постели? — удивился я.
— А это была такая мода — принимать лежа в посте-. ли. Но на вас при этом должен быть непременно надет парик и батистовая сорочка с кружевами. Впоследствии пошла другая мода. Стало позволяться принимать утренних гостей, сидя в кресле. Но и тут вменялось в обязанность надевать небрежный костюм. Халат и туфли — обязательно. Да, Кларк, мода — это великий тиран, хотя ее власть и не распространяется на Хэвант. Дело в том, что ленивые горожане хотят завести порядок в жизни и вследствие этого хотят сделаться рабами моды. Я отличался особой покорностью моде. Во всем Лондоне не было такого покорного раба моды, как я. Я был регулярен в своих нерегулярностях. Я сохранял порядок в своей беспорядочности. Ровно в 11 часов утра ко мне в спальню входил мой слуга, неся мне чашку чинограсса[34]. Это чудное средство против тошноты. Вместе с этим я съедал легкий завтрак: кусочек дичи или чего-нибудь в этом роде. Затем начинался утренний прием. Являлись тридцать человек всякой дряни, вроде той, о которой я только что говорил. Иногда, впрочем, попадались между ними и честные люди. Какой-нибудь нуждающийся литератор иногда забредал ко мне, чтобы попросить гинею, или же находящийся не у дел педант с большой ученостью в голове, но с пустым карманом. Ко мне лезли не только потому, что считали меня богатым и влиятельным человеком. Всем было известно, что я дружен с лордом Галифаксом, Сиднеем Годольфином, Лоренсом Гайдом и другими влиятельными господами. Через меня добивались их протекции… А поглядите-ка, вон там, налево, что-то светится. Не заехать ли нам туда? Может быть, мы и найдем там что-нибудь.
— Это нам придется, по всей вероятности, сделать на возвратном пути, сказал я, — Гукеру приказано ехать в определенное место, и он никаких остановок не будет делать. Полагаю, что мы еще успеем сюда заехать: ночь велика.


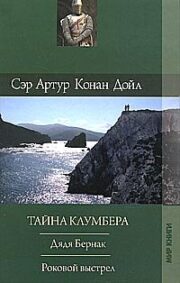

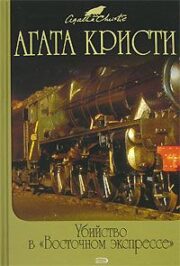
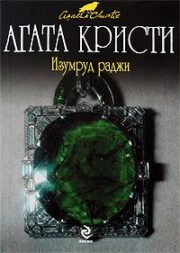
Автор Артур Конан Дойл предоставляет интересные исторические и военные рассказы, которые помогут вам получить больше знаний о прошлом.
Эта книга предлагает захватывающие приключения Михея Кларка, которые привлекают внимание читателей всех возрастов.
Эта книга предлагает захватывающие приключения и интересные истории, которые помогут читателям получить новые знания и впечатления.