— Да, тысяча чертей! — проворчал Дреслер. — Пора нам попробовать этот знаменитый бочонок!
Дамы присоединились к ним, и со всех сторон длинного, плохо накрытого стола полетели просьбы об икре.
Странно было думать здесь о таком деликатесе, но вот как обстояло дело: за два или за три дня до восстания профессор Мерсер, старый энтомолог из Калифорнии, получил из Сан-Франциско посылку, в которой, между прочим, был бочонок с икрой! Во время общего дележа провизии икру и три бутылки шампанского вина отложили в сторону; по общему согласию, эти лакомства предназначались для последнего радостного банкета, долженствовавшего иметь место, когда осажденные увидят конец опасности. Теперь, когда они сидели за столом, до слуха их доносился грохот пушек, которые должны были спасти их.
В самом изысканном ресторане Лондона не слыхали они такой чудной музыки, как эта. Помощь, наверно, придет до вечера. Почему же тогда не подсластить сухого хлеба драгоценной икрой?
Но профессор покачал своей лохматой старой головой и улыбнулся своей загадочной улыбкой.
— Лучше подождем, — сказал он.
— Ждать? Зачем ждать? — закричали все.
— Им еще далеко идти, — ответил профессор.
— Они будут здесь самое позднее к ужину, — сказал железнодорожник Ральстон, похожий на птицу человек, с блестящими, проницательными глазами и длинным, выдающимся носом. — Теперь они не более как в десяти милях от нас. Если они будут делать по две мили в час, то придут сюда к семи.
— По дороге им придется сражаться, — заметил полковник. — Положите на сражение два или три часа.
— Ни полчаса, — воскликнул Энслей. — Они пройдут сквозь неприятеля, как будто его и не существовало. Что могут поделать эти негодяи со своими кремневыми ружьями и саблями против современных орудий?
— Это зависит от колонновожатого, — сказал Дрес-лер. — Если, к счастью, это немецкий офицер.
— Готов пари держать, что это англичанин! — крикнул Ральстон.
— Говорят, французский коммодор[45] — превосходный стратег, — заметил отец Пьер.
— По-моему, это решительно все равно! — крикнул Энслей. — Мистер Маузер и мистер Норденфельдт[46] — вот кто спасет нас, с их помощью никакой предводитель не может ошибиться. Говорю вам, их просто растолкают и пройдут между ними. Итак, профессор, давайте ваш бочонок с икрой.
Но его убеждения не подействовали на старого ученого.
— Мы оставим его на ужин, — сказал он.
— В сущности, — сказал мистер Паттерсон медленно, отчетливой шотландской интонацией, — с нашей стороны будет вежливо, если мы угостим чем-нибудь вкусным наших гостей — офицеров подкрепления. Я соглашаюсь с мнением профессора сохранить икру на ужин.
Этот аргумент подействовал на чувство гостеприимства осажденных. В мысли оставить лакомый кусочек для удовольствия спасителей было нечто приятно рыцарственное. Разговор об икре не возобновлялся.
— Между прочим, профессор, — сказал мистер Паттерсон, — я только сегодня узнал, что вы во второй раз сидите в осаде. Я уверен, что всем здесь было бы интересно услышать некоторые подробности о том, что вам пришлось испытать.
Лицо старика приняло угрюмое выражение.
— Я был в Сунг-тонге, в южном Китае, в восемьдесят девятом году, — сказал он.
— Какое странное совпадение, что вам пришлось быть два раза в таком опасном положении, — сказал миссионер. — Расскажите, как вы были спасены в Сунг-тонге.
Тень, лежавшая на усталом лице, стала еще заметнее.
— Мы не были спасены, — сказал он.
— Как, Сунг-тонг пал?
— Да, пал.
— Каким же образом вы остались в живых?
— Я не только энтомолог, но и доктор. У них было много раненых; меня пощадили.
— А остальные?
— Assez! Assez![47] — крикнул маленький французский священник с протестующим жестом. Он пробыл в Китае двадцать лет. Профессор ничего не сказал, но в его тусклых, серых глазах промелькнуло такое выражение ужаса, что дамы побледнели.
— Я сожалею, что заговорил о таком тяжелом предмете, — сказал миссионер. — Мне не следовало спрашивать.
— Да, — медленно ответил профессор, — не следует расспрашивать. Лучше вообще не говорить о подобного рода вещах. Но, ведь и вправду пушки как будто приближаются?
Сомнений не могло быть. После некоторого молчания снова раздался гул пушек; живое журчание ружейного огня как бы резвилось вокруг основной ноты. Эти звуки доносились, казалось, с дальнего конца ближайшего холма. Все отодвинули стулья и побежали к валу. Неслышно двигавшиеся слуги-туземцы вошли и убрали со стола скудные остатки еды. Но старый профессор продолжал сидеть и после того, как они вышли из комнаты, склонив на руки массивную голову, увенчанную седыми волосами, с тем же задумчивым взглядом полных ужаса глаз. Можно забыть иные призраки на некоторое время, но, когда они восстают, нельзя отогнать их в места их успокоения. Пушки умолкли, но он не заметил этого, весь погруженный в самые ужасные воспоминания своей жизни.
Мысли его были наконец прерваны появлением коменданта. Довольная улыбка играла на его широком немецком лице.
— Кайзер[48] будет доволен, — потирая руки, сказал он. — Да, наверно, получу орден. Защита Ишау от нападения боксеров полковником Дреслером, бывшим майором 114-го ганноверского пехотного полка. Великолепное сопротивление малочисленного гарнизона против подавляющего неприятельского войска. Наверно, об этом будут писать в берлинских газетах.
— Так вы думаете, что мы спасены? — сказал старик. Ни волнения, ни восторга не было слышно в его голосе.
Полковник улыбнулся:
— Ну, профессор, я видел вас более взволнованным в тот день, когда вы принесли в вашем ящике для коллекций «Lepidus Mercerensis».
— Эта муха была уже в моем ящике, — ответил энтомолог. — В жизни мне пришлось видеть столько странных случайностей судьбы, что я печалюсь и веселюсь только, когда есть причина к тому или другому. Но расскажите мне ваши новости.
— Ну, — сказал полковник, закуривая свою длинную трубку и протягивая на стул ноги в гетрах, — я ставлю на карту мою военную репутацию — все идет хорошо. Они быстро подвигаются, пальба прекратилась; это указывает, что сопротивление сломлено, и через час мы увидим на холме подкрепление. Энслей должен дать сигнал, выстрелив три раза из ружья с башни; тогда мы сами сделаем небольшую вылазку.
— И вы ждете сигнала?
— Да, мы ждем выстрелов Энслея. Я решил провести с вами время свидания, так как хочу спросить вас кое о чем.
— О чем же?
— Помните наш разговор о другой осаде — осаде Сунг-тонга... Меня он очень интересует с профессиональной точки зрения. Теперь, когда ушли дамы и штатские, вы не откажетесь поговорить об этой осаде.
— Это неприятный предмет разговора.
— Конечно. Боже мой! Это целая трагедия. Но вы видели, как я выдерживал осаду здесь. Умно ли? Хорошо ли? Достойно ли традиций немецкой армии?
— Я думаю, что большего вы не могли бы сделать.
— Благодарю вас. Но так же ли защищали Сунг-тонг? Мне очень интересно подобного рада сравнение. Можно ли было спасти его?
— Нет, было сделано все возможное, за исключением одного.
— А! Значит, было упущение. Какое же?
— Не надо было допускать, чтобы кто-либо, особенно женщины, попали живыми в руки китайцев.
Полковник протянул свою большую красную руку и сжал длинные белые нервные пальцы профессора.
— Вы правы... тысячу раз правы. Но не думайте, чтоб это обстоятельство не было предусмотрено мной. Я умер бы в битве, так же, как Ральстон и Энслей. Я говорил с ними, и мы порешили так, я говорил и с другими, но что поделаешь с ними. Это священник, миссионер и женщины.
— Неужели же они хотели бы быть взятыми живыми?
— Они не дали обещания принять какие-нибудь меры, чтобы предупредить это. Они не хотели наложить на себя руки. Совесть не дозволяет им сделать это. Конечно, теперь все это прошло и нечего разговаривать о таких страшных вещах. Но что бы вы сделали на моем месте?
— Убил бы их.
— Боже мой! Вы убили бы их?
— Убил бы из сострадания. Видите, я пережил все это. Я видел смерть от горячих яиц; я видел смерть в кипящем котле; я видел женщин... Боже мой... удивительно, как я еще мог спать после этого. — Его обыкновенно невыразительное лицо все передергивалось от муки воспоминаний. — Меня привязали к колу и всадили мне в веки деревянные иглы, чтобы держать их открытыми. Мое горе при виде мучений женщин было все же менее тех упреков, которыми я осыпал себя, когда думал, что с помощью одной трубочки с лишенного всякого вкуса лепешками я мог бы в последний момент вырвать их из рук палачей. Убийство! Я готов предстать пред божественным судом и отвечать за тысячу таких убийств. Грех! Ну, такой поступок мог бы очистить душу от пятна настоящего греха. Но если, зная то, что я знаю, я и во второй раз не сделаю этого, то, клянусь небом, нет ада достаточно глубокого, достаточно пламенного, чтобы принять мою грешную, подлую душу.
Полковник встал, и его рука сжала руку профессора.
— Вы говорите здраво, — сказал он. — Вы смелый, сильный человек, знающий, что ему следует делать. Да, клянусь Господом, вы были бы мне большой помощью в случае, если бы дело приняло иной оборот. В ранние часы, до рассвета, я часто раздумывал и мучился, как мне поступить. Однако нам следовало бы уже слышать выстрелы Энслея. Пойду посмотрю.
Старый ученый снова остался наедине со своими мыслями. Наконец, не слыша ни грохота пушек, ни сигнала о приближении подкрепления, он встал и только что собрался идти на ров, как дверь быстро распахнулась и в комнату, шатаясь, вошел полковник Дреслер. Цвет его лица был мертвенный, желтовато-бледный, а грудь подымалась как у человека, уставшего от бега. Он взял со стола стакан водки и сразу проглотил его. Потом он тяжело опустился на стул.





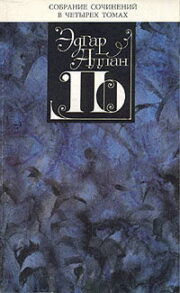
Автор Артур Конан Дойл предоставляет интересные исторические и военные рассказы, которые помогут вам получить больше знаний о прошлом.
Эта книга предлагает захватывающие приключения Михея Кларка, которые привлекают внимание читателей всех возрастов.
Эта книга предлагает захватывающие приключения и интересные истории, которые помогут читателям получить новые знания и впечатления.