Сперва, среди сумятицы, его протест едва ли был замечен. Его голос тонул в общем реве, который вспыхивал вновь при всяком поклоне и самодовольной усмешке глупца-музыканта. Но мало-помалу народ вокруг Поликла перестал хлопать и уставился на него в крайнем недоумении. Тишина все ширилась, пока наконец громадное собрание не умолкло, глядя на этого разъяренного и прекрасного человека, который бешено кричал на них со своего места у выхода.
— Дураки! — бушевал он. — Чему вы рукоплещете? Чему радуетесь? И это вы называете музыкой? Да у малого нет голоса и в помине! Вы либо оглохли, либо сошли с ума, и да будет вам стыдно за ваше безумие — вот что я вам скажу!
Солдаты ринулись, чтобы стащить его со скамьи, и вся аудитория пришла в замешательство: иные, похрабрее, одобряли слова пастуха, иные требовали выгнать его вон. Тем временем удачливый певец, отдавши арфу черному прислужнику, расспрашивал людей на сцене, чем вызвано волнение среди публики. Кончилось тем, что глашатай с невероятно мощным голосом выступил вперед и объявил: если придурковатый субъект из задних рядов, который, по-видимому, расходится во мнениях с остальными зрителями, выйдет вперед и поднимется на возвышение, он может — если дерзнет — показать, на что способен он сам, и убедиться, достанет ли у него сил, чтобы затмить то изумительное и восхитительное выступление, которое все собравшиеся имели счастье только что услышать.
В ответ на вызов Поликл живо соскочил с сиденья, ему очистили проход, и минутою позже пастух, в небрежном своем наряде, с облезлой, облинявшей под дождем кифарою в руках, уже стоял перед напряженно ожидавшею толпою. Мгновение он помедлил, настраивая кифару — натягивая одни струны и отпуская другие, — а потом, под шум смешков и острот с римских скамей прямо перед ним, запел.
Готового сочинения у него не было, но он приучился импровизировать, перекладывая в песню все, что копилось на сердце, — просто из любви к музыке. И он стал рассказывать о любимой Зевсом стране Элиде, где они собрались в этот день, о нагих горных склонах, о сладостной тени облаков, об извилистой синей реке, о бодрящем воздухе нагорий, о прохладе вечеров, о красотах земли и неба. Рассказ был по-детски прост, но граждан Олимпии он брал за душу, потому что говорил о стране, которую они знали и любили. И тем не менее, когда Поликл наконец опустил руку, лишь немногие из них посмели выразить свое одобрение, и слабые их голоса захлестнул ураган свистков и жалобных стонов с передних скамей. В ужасе от столь непривычного приема Поликл отпрянул назад, и тут же его место занял соперник в синей тунике. Если прежде он пел плохо, то теперешнее его выступление уже невозможно и описать. Его визг, рычание, диссонансы и грубые, отвратительные неблагозвучия были оскорблением самому имени музыки. И однако всякий раз, как он умолкал, чтобы перевести дыхание или утереть мокрый от пота лоб, новый гром рукоплесканий прокатывался над аудиторией. Поликл спрятал лицо в ладонях и молил богов, чтобы ему остаться в здравом уме. Потом, когда страшное выступление окончилось и рев восхищения засвидетельствовал, что венок наверняка будет присужден толстомордому мошеннику, ужас перед публикой, ненависть к этому племени дураков и страстная жажда мира и тишины пастбищ овладели всеми его чувствами, всем существом. Он пробился через массу народа, столпившуюся по обе стороны сцены, и выбрался на свежий воздух. Его старый соперник и друг Мета из Коринфа ждал его снаружи; лицо Меты выражало тревогу.
— Скорей, Поликл, скорей! — закричал он. — Моя лошадка привязана вон за тою рощицей. Серая, в красной попоне. Скачи во всю прыть, потому что если тебя схватят, нелегкая предстоит тебе смерть!
— Нелегкая смерть?! О чем ты толкуешь, Мета? Кто этот малый?
— О, великий Зевс! Ты не знал? Где ж ты жил? Это император Нерон! Он никогда не простит того, что ты сказал о его голосе. Быстрей, друг, быстрей, или стража кинется следом!
Спустя час пастух был уже далеко на пути к своему дому в горах, и примерно в то же время император, получив олимпийский венок за несравненную красоту пения, хмуро расспрашивал, кто этот наглый тип, который позволил себе так высокомерно критиковать его искусство.
— Немедленно привести его ко мне, — сказал он, — а Марк с ножом и раскаленным железом пусть будет наготове.
— С твоего изволения, великий Цезарь, — промолвил Арсений Плат, офицер личной стражи, — его невозможно сыскать, и очень странные слухи носятся в воздухе.
— Слухи! — сердито вскричал Нерон. — На что ты намекаешь, Арсений? Говорю тебе, что этот малый — невежда и выскочка с повадкой грубияна и голосом павлина! И еще говорю тебе, что многие среди народа провинились не меньше, чем он: я слышал собственными ушами, как они хлопали ему, когда он спел свою смехотворную песню. Я уже почти решился сжечь этот город, у которого такие нечуткие уши, — пусть помнит Олимпия, как я побывал у нее в гостях!
— Нет ничего удивительного, Цезарь, что они высказались в его пользу, — ответил воин. — Сколько я понял из разговора, тебе — даже тебе! — было бы не стыдно выйти и побежденным из этого состязания.
— Мне? Побежденным? Ты рехнулся, Арсений! На что ты намекаешь?
— Никто не знает этого человека, великий Цезарь. Он спустился с гор и снова исчез в горах. Ты заметил дикую, необычную красоту его лица? Повсюду шепчутся, что великий бог Пан, в виде особой милости, снизошел до смертного, чтобы помериться с ним силою искусства.
Угрюмые складки на лбу Нерона разгладились.
— Конечно, Арсений! Ты прав. Никто из людей не осмелился бы бросить мне такой дерзкий вызов. И каков рассказ для римлян! Пусть гонец едет нынче же в ночь и пусть поведает им, как их император поддержал сегодня в Олимпии честь Рима!
Возвращение
Была весна 528 года. Небольшое судно, переполненное пассажирами, совершало рейс из Халцедона в Константинополь. Это было утро праздничного дня — дня святого Георгия. Почти все пассажиры были паломники, спешившие на торжественные богослужения в честь этого святого — одного из самых почитаемых в необозримом сонме святых Восточной церкви. Ясное небо и легкий бриз способствовали общему праздничному настроению: можно было, не опасаясь морской болезни, любоваться постепенно открывающимися взору красотами самого грандиозного и величественного города в мире.
Среди пассажиров двое невольно привлекали к себе любопытные взгляды. Один — редкой красоты мальчик, лет десяти-двенадцати; черты лица его были правильны и в то же время изящны, его обрамляли темные кудри и одухотворяли живые карие глаза, так и светившиеся умом и жизнерадостностью. Его спутник, худой седобородый старик с суровым изможденным лицом, то и дело невольно улыбался, наблюдая, с каким восторгом и любопытством смотрит мальчик на прекрасный город вдалеке и на суда, которым, казалось, было тесно в узком проливе.
— Смотри, смотри! — кричал мальчик. — Какие красивые корабли выплывают из той бухты. Отец-настоятель, ведь это, наверное, самые большие корабли на свете?
Тот, к кому он обращался, настоятель монастыря святого Никифора в Антиохии, тронул его за плечо.
— Потише, Лев, не кричи так. Нам нельзя привлекать к себе внимание, пока мы не увидимся с твоей матерью. А эти красные галеры в самом деле огромные. Это военные корабли императора. А бухта — Феодосийская гавань. Скоро мы обогнем вот тот зеленый мыс и войдем в бухту Золотой Рог. Там становятся на якорь торговые суда. А теперь посмотри-ка туда, вон на те строения и большой собор. Видишь эту колоннаду, которая тянется вдоль моря. Это императорский дворец.
Мальчик всматривался долго и пристально.
— Там и живет моя мать? — спросил он.
— Да, дитя мое, твоя мать, великая императрица Феодора, и ее муж, великий император Юстиниан, живут в этом дворце.
Взгляд детских глаз поразил старика своей пытливостью.
— Слушай, отец Лука, ты думаешь, она вправду будет мне рада?
Настоятель отвернулся, чтобы не встречаться с этим вопрошающим взглядом.
— Кто знает, Лев? Но нужно попробовать. Если здесь тебя не примут, то мы в монастыре всегда тебе будем рады.
— Отец Лука, а почему ты не написал моей матери о нашем приезде? Почему не подождал, когда она позовет меня?
— Издалека, Лев, легче отказать. Нас просто задержал бы императорский гонец. Надо, чтобы она увидела тебя, Лев, заглянула тебе в глаза, они так похожи на ее собственные! А твое лицо напомнит ей того, кого она любила когда-то. И тогда, если ее сердце еще не превратилось в камень, оно откроется для тебя. Говорят, она ни в чем не знает отказа у императора. У них нет детей. И, быть может, Лев, тебя ожидает великое будущее. Если это свершится, вспомни о бедной братии из монастыря святого Никифора. Там тебя приютили, когда ты был один на всем свете.
Десять лет назад эта непотребная женщина, которая одинаково славилась на Востоке как своей красотой, так и распутством и одно имя которой вызывало у богобоязненных людей дрожь отвращения, постучала в ворота бедного уединенного монастыря и умолила монахов позаботиться о младенце и избавить ее от этого свидетельства греха.
Там приемыш и оставался. А сама она, беспутная и продажная, вернулась в Константинополь. И здесь Фортуна повернулась к ней лицом: ей удалось вначале увлечь престолонаследника Юстиниана, а впоследствии завоевать его прочную и глубокую любовь. И когда после смерти императора Юстина его племянник Юстиниан стал самым великим и могущественным властелином на свете, он не только сделал Феодору своей женой и императрицей, но и разделил с ней свою власть. Царственная супруга императора обладала такой же неограниченной властью, могучей и независимой, как он сам.
И кто бы мог подумать! Развратная женщина восстала из того праха, в котором она когда-то пребывала, и отрясла его с себя, а вместе с ним и все то, что могло бы хоть отдаленно, намеком, напомнить о ее прошлом. В новой жизни она обрела чувство собственного достоинства, гордость и скоро стала подлинно великой императрицей. Супруга она превзошла не только в силе и мудрости, но и в жестокости, мстительности и непреклонности. Горе ее врагам! К ним она была беспощадна. Но друзьям была верна.


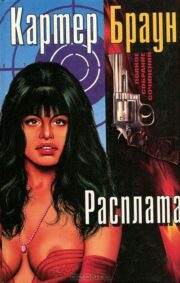
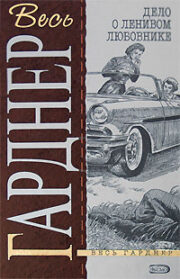


Автор Артур Конан Дойл предоставляет интересные исторические и военные рассказы, которые помогут вам получить больше знаний о прошлом.
Эта книга предлагает захватывающие приключения Михея Кларка, которые привлекают внимание читателей всех возрастов.
Эта книга предлагает захватывающие приключения и интересные истории, которые помогут читателям получить новые знания и впечатления.