В дверь постучали, вернее, ударили.
— Это, должно быть, Филип, — сказал Лео Аргайл. — Будь добр, открой ему, Микки.
Микки прошел к двери, распахнул ее, и через порог, весело ухмыляясь, въехал на своем кресле Филип Даррант.
— Вы сейчас заняты, сэр? — обратился он к Лео. — Мне ведь не к спеху, могу и подождать. Я мешать вам не буду, пороюсь тихонько на книжных полках.
— Нет, — ответил Лео. — Я сейчас не работаю.
— Гвенда не пришла? — сочувственно осведомился Филип.
— Она звонила, предупредила, что не придет сегодня, у нее болит голова, — ровным голосом объяснил Лео.
— Вот как.
Микки сказал:
— Ладно, я пойду. Загляну к Тине, вытащу ее погулять. Эта девчонка боится свежего воздуха.
И легкой, пружинистой походкой вышел из библиотеки.
— Я ошибаюсь, или действительно в Микки за последнее время произошла перемена? Он, кажется, уже не злится на всех и вся? — спросил Филип.
— Он повзрослел, — ответил Лео. — Правда, у него на это ушло довольно много времени.
— Не очень-то подходящий момент он выбрал, чтобы так воспрянуть духом, — заметил Филип. — После вчерашнего допроса как-то не до веселья, вы согласны?
Лео тихо ответил:
— Разумеется, очень тяжело заново все это переживать.
— У Микки, как по-вашему, есть совесть? — продолжал Филип, продвигаясь в своем кресле вдоль полок и рассеянно вытаскивая то один томик, то другой.
— Странный вопрос, Филип.
— Ничуть, сэр. Я просто размышляю. Ведь бывают же люди, у которых нет музыкального слуха. И точно так же некоторые не способны испытывать угрызения совести, раскаяние и даже простое сожаление по поводу своих действий. Взять того же Жако. Он точно ничего подобного не испытывал.
— Да. Это верно.
— Ну а Микки? — Филип помолчал и заговорил совсем на другую тему: — Можно я задам вам один вопрос, сэр? Вам вообще-то известно происхождение ваших приемных детей?
— Почему вы об этом спрашиваете, Филип?
— Просто любопытно. Меня очень занимают проблемы наследственности. Интересно, насколько велика ее роль?
Лео не отвечал. Филип смотрел на него с живым интересом.
— Возможно, вам неприятно, что я задаю такие вопросы?
— Нет, отчего же, — сказал Лео, вставая. — Вы ведь член нашей семьи и имеете право их задавать. А в данной ситуации, спору нет, то, о чем вы спрашиваете, весьма существенно. Но наших детей, строго говоря, нельзя считать приемными. Мэри, ваша жена, действительно была удочерена по закону. Остальные же попали в наш дом в общем-то неформальным путем. Жако осиротел, его отдала нам на время войны родная бабка. Она погибла во время бомбежки, и мальчик остался у нас. Так уж вышло. Микки внебрачный ребенок. Его мать интересовали исключительно кавалеры. Она назначила цену в сто фунтов и получила их. Что сталось с матерью Тины, нам неизвестно. Она ни разу не написала своей дочери, не потребовала, чтобы ей ее вернули после войны, а разыскать ее не представлялось возможным.
— А Эстер?
— Эстер тоже внебрачный ребенок. Ее мать была ирландка, молоденькая медсестра. Вскоре после того, как ее дочь оказалась у нас, она вышла за американского солдата и попросила, чтобы мы оставили девочку у себя. Не хотела, чтобы муж знал о незаконном ребенке. В конце войны она уехала с мужем в Штаты, и с тех пор мы о ней ничего не слышали.
— У каждого по-своему трагическая история, — заметил Филип. — Все пятеро — несчастные, никому не нужные подкидыши.
— Да, — сказал Лео. — Потому-то Рейчел с такой страстью к ним ко всем и относилась. Хотела, чтобы они почувствовали себя желанными, чтобы у них был свой дом, хотела стать им настоящей матерью.
— Благородное стремление.
— Да, но получилось не так, как она рассчитывала, — вздохнул Лео. — Она свято верила, что кровное родство ничего не значит. На самом же деле оно все-таки имеет значение. В характере, в поведении родных детей обычно есть какая-то особинка, которую узнаешь и понимаешь без слов. А с приемными детьми такой связи нет. Их не понимаешь сердцем, только умом и судишь о них, отталкиваясь только от своих собственных представлений и чувств. Однако нельзя забывать о том, что твои мысли и чувства, возможно, довольно далеки от того, что думают и чувствуют они.
— Вы, вероятно, всегда понимали это?
— Я предостерегал Рейчел, — кивнул Лео. — Но она, конечно, не верила. Отказывалась верить. Она внушала себе, что это ее родные дети.
— Тина всегда казалась мне темной лошадкой, — сказал Филип. — Возможно, потому, что она не совсем белая. Кто был ее отец, вы знаете?
— Кажется, какой-то моряк. Возможно, индиец. Мать не могла точно сказать, — сухо добавил Лео.
— Совершенно непонятно, как она на что реагирует, что думает. Говорит мало. — Филип замолчал. А потом выпалил: — О чем, интересно, она знает, но помалкивает?
Он заметил, как рука Лео, переворачивавшая страницы, замерла в воздухе. На мгновенье стало тихо, затем Лео спросил:
— Почему вы думаете, что она говорит не все, что знает?
— Но, сэр, это же очевидно, разве нет?
— Мне не очевидно, — сказал Лео.
— Ей известно что-то, что может повредить какому-то определенному лицу, вы не думаете?
— Я думаю, Филип, вы уж простите меня, что рассуждать на эти темы крайне неосмотрительно. Можно нафантазировать лишнее.
— Вы меня хотите припугнуть, сэр?
— Какое вам, в сущности, до всего этого дело, Филип?
— В смысле, что я не полицейский?
— Да. Именно это я хотел сказать. Полицейские обязаны выполнять свою работу. Их долг — разбираться, что и как.
— А вы сами не хотите в этом разобраться? Или… или вы и без того знаете, кто убийца? Знаете, сэр?
— Нет.
Краткость и страстность его ответа поразили Филипа.
— Нет, — повторил Лео и ударил ладонью по столу. Сейчас он был совсем не похож на того тихого и замкнутого книжного червя, которого так хорошо знал Филип. — Я не знаю, кто убийца! Слышите? Не знаю. Не имею ни малейшего представления. И не хочу, не желаю знать.
Глава 17
— Эстер, а ты что тут делаешь, душечка моя? — спросил Филип.
Он катил в своем кресле по коридору. А Эстер стояла в коридоре у окна. При звуке его голоса она вздрогнула и оглянулась.
— А, это ты, — проговорила она.
— Созерцаешь Вселенную или хочешь выпрыгнуть из окна? — поинтересовался Филип.
— С чего это ты взял? — с вызовом спросила Эстер.
— По лицу прочел, — ответил Филип. — Однако, если ты и вправду задумала такое, предупреждаю: данное окно для подобных целей не годится: оно слишком низко от земли… Ну подумай сама: до чего неприятно будет получить перелом руки и ноги вместо благодатного забвения, которого ты жаждешь.
— Когда-то Микки вылезал из этого окошка и спускался по стволу магнолии. И возвращался тем же путем. А мама об этом и не догадывалась.
— Чего только не скрывают от родителей! Можно целую книгу написать на эту тему. Однако если ты все же подумываешь о том, чтобы свести счеты с жизнью, Эстер, то гораздо надежнее будет прыгнуть с того места, где беседка.
— Это где выступ над самой рекой? Да, там разобьешься в лепешку о камни!
— У тебя слишком пылкое воображение, Эстер. Большинство людей вполне удовлетворила бы газовая духовка: аккуратно сунул туда голову — и порядок. Или того проще: выпить целую пачку снотворного.
— Я рада, что ты здесь, — неожиданно сказала Эстер. — С тобой всегда можно поболтать на любые темы… о чем угодно.
— Мне ведь теперь больше особенно и заняться нечем, — признался Филип. — Пошли в мою комнату, поболтаем еще. — И, видя, что она колеблется, добавил: — Мэри внизу, пошла приготовить для меня какое-то несъедобное угощение — своими собственными белыми ручками.
— Мэри меня не поймет, — сказала Эстер.
— Это верно, — согласился Филип. — Мэри ничегошеньки не поймет.
Он покатил дальше, и Эстер пошла с ним рядом. Она открыла дверь их гостиной и пропустила Филипа вперед.
— А вот ты понимаешь, — сказала она, входя следом. — Почему?
— Видишь ли, бывают ситуации, когда такие мысли не могут не прийти в голову… Например, когда со мной случилась эта история и я понял, что могу остаться калекой на всю жизнь…
— Да, — сказала Эстер. — Это, наверно, было жутко. Жутко. Ты же летчик.
— «Высоко-высоко по небу летит на белой тарелочке сахарный бисквит», — шутливо продекламировал Филип.
— Прости меня, ради Бога! Я такая эгоистка… я не подумала… это я должна была проявить сочувствие.
— И хорошо, что не проявила, — сказал Филип. — И вообще, это время у меня уже прошло. Ко всему можно привыкнуть, Эстер. Сейчас эти слова для тебя — пустой звук, но в конце концов ты убедишься, что я прав. Если только не успеешь раньше наделать всяких глупостей. Ну давай рассказывай. Что такое случилось? Повздорила, наверно, со своим дружком, этим неулыбой-медикусом?
— Нет, не повздорила. Все гораздо хуже.
— Обойдется, — сказал Филип. — Вот увидишь.
— Нет, никогда. Тут уже ничего не исправишь.
— Эх, Эстер, какая же ты максималистка. Для тебя все либо белое, либо черное, да? И никаких полутонов.
— Что поделаешь, — ответила Эстер. — У меня всю жизнь так. Чего ни задумаю, за что ни возьмусь, все у меня получается шиворот-навыворот, не как мечталось. Я хотела, чтобы у меня была своя жизнь, хотела кем-нибудь стать, что-то делать. И все так, впустую… Я часто подумывала о самоубийстве. Лет с четырнадцати.
Филип слушал ее очень внимательно. А потом спокойно, деловито проговорил:
— Между четырнадцатью и девятнадцатью очень многие решаются на самоубийство. Это такой возраст, когда как бы смещаются пропорции. Школьники хотят свести счеты с жизнью, потому что боятся провалиться на экзамене, школьницы — потому что мама не пустила в кино с мальчиком, который нравится ей, но не нравится маме. В этом возрасте все окрашено в неестественно яркие краски — и радости и огорчения. Совсем как в кино. Либо полный мрак, либо на седьмом небе от счастья. Но эта острота восприятия с возрастом проходит. Твоя беда в том, Эстер, что ты все никак не повзрослеешь, а пора бы.

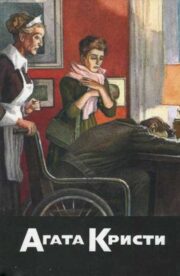
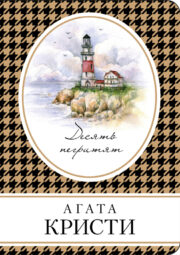


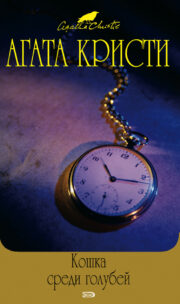
Агата Кристи прекрасно показывает нам мир полный загадок и приключений.
Эта книга Агаты Кристи просто потрясающая! Я был поглощен историей и не мог оторваться до последней страницы. Детективный сюжет происходит в Англии в период между двумя мировыми войнами. Агата Кристи прекрасно передает атмосферу того времени, а также подробно описывает процесс расследования. Она прекрасно передает мысли и чувства главного героя, а также других персонажей. Я очень рекомендую эту книгу всем, кто любит детективы и исторические романы.
Эта книга предлагает интригующую историю о поисках правды и приключениях главного героя.
Эта книга Агаты Кристи была для меня открытием. Я была поражена интеллектуальной и драматической глубиной истории. Я была поглощена проникновенной атмосферой и притягательными персонажами. Книга предлагает невероятно интригующий план и предлагает много возможностей для дальнейшего изучения. Я очень рекомендую эту книгу всем, кто ищет интересную историю и интригующие персонажи.
Эта книга Агаты Кристи была для меня очень захватывающей и интересной. Я был погружен в мир приключений и загадок, которые предлагал автор. Она прекрасно передала атмосферу преступления и преследования за невиновными. Я был под впечатлением от проникновения в душу главного героя и от проникновения в мир преступлений. Эта книга принесла мне много удовольствия и я очень рекомендую ее всем, кто любит детективы.
Эта книга предлагает нам невероятное путешествие в мир приключений и загадок.